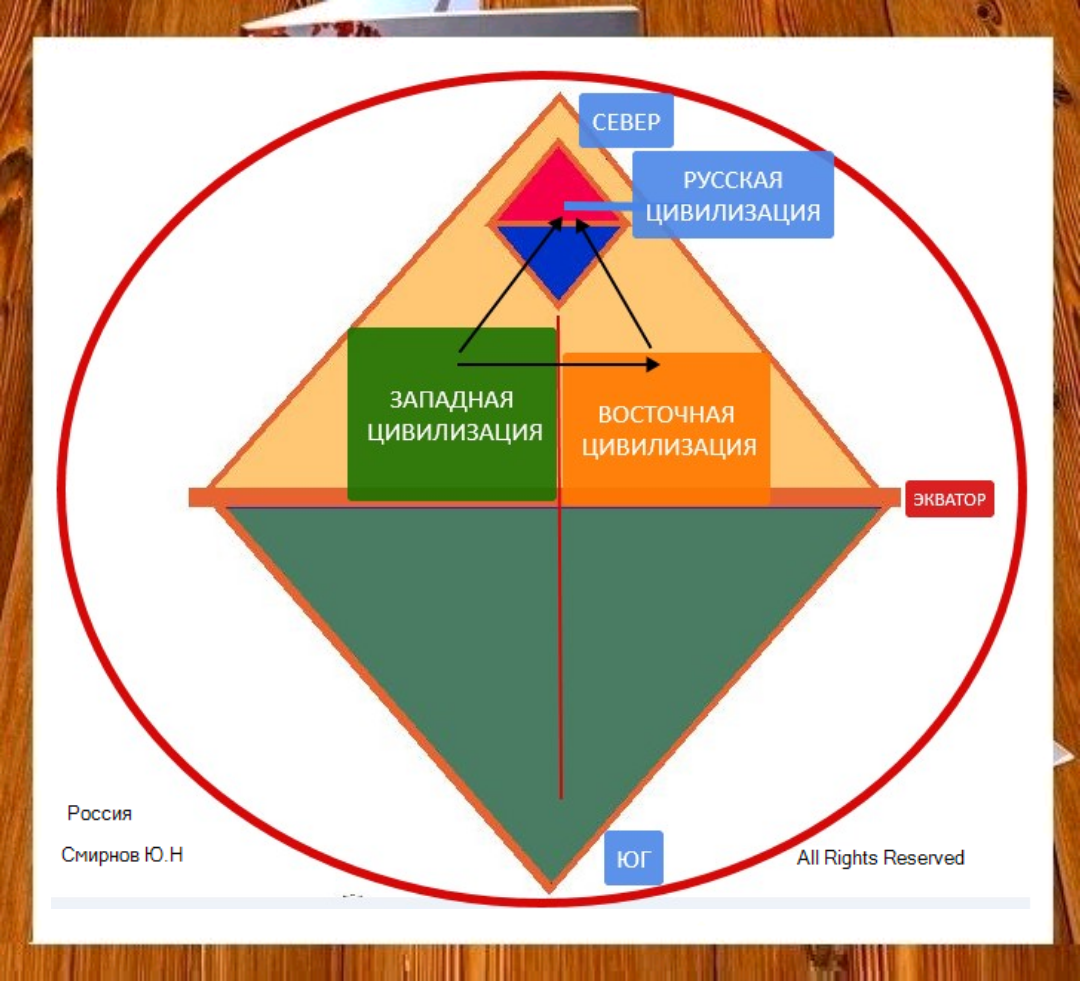|
|
|
|
Платон ПЛАТОН. ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВА I Наши сведения о Платоне. Его рождение, семья и первоначальное образование. Встреча с Сократом и взаимные их отношения. Путешествия Платона. Влияние пифагорейской философии. Три поездки на Сицилию и политические мечтания Платона. Смерть его. Внешность и характер его. Политические убеждения и влияние на современников. Деятельность Платона. Школа и метод. Диалогическая форма Платоновых сочинений: ее преимущества и историческое значение. Художественность диалогов и неудобочитаемость их. Подлинность диалогов и невозможность классифицировать их. Отсутствие системы и характер Платоновых доктрин. Теории Шлейермахера и Германна. Хронологический порядок диалогов и разделение философской системы Платона на три отдела. ГЛАВА II Исторический момент. Мир материальный и мир идеальный. Идеи — их природа и отношение к предметам чувственного восприятия. Иллюстрация. Коренное противоречие в платоновском миросозерцании. Знание реальное и мнимое. Орудие истинного познания. Важность вопроса об абсолютном знании. Ответ на него Платона - теория воспоминания. Произвольность ее и значение в истории мысли. Выводы практической морали и исторический их смысл. Иерархия идей. Высочайшее благо. Божество. Сотворение мира. Косное начало. Материальная форма. Мировая душа. Космология. Психология. Природа души. Добродетель. Любовь. ГЛАВА III Значение политических взглядов Платона для настоящего времени. Утопии вообще и платоновская в частности. “Республика”. Возникновение обществ и их органические элементы. Ошибочность платоновских взглядов. Политические формы общества и их недостатки. Идеальное правление философов. Роль воспитания. В чем оно состоит: гимнастика, музыка, поэзия и математика. Значение этих предметов образования. Цели воспитания: распределение общественных обязанностей и прав и реализация высшего блага. Классы и их добродетели. Коренная ошибка платоновской схемы. Необходимость в обществе единодушия и согласия. Взгляды Платона на частную собственность и семью. Уничтожение обоих институтов. Брачное сожительство и положение детей. Неестественность платоновского режима. Положение женщины, ее права, обязанности и воспитание. Основной недостаток платоновского миросозерцания. ГЛАВА I Наши сведения о Платоне. Его рождение, семья и первоначальное образование. Встреча с Сократом и взаимные их отношения. Путешествия Платона. Влияние пифагорейской философии. Три поездки на Сицилию и политические мечтания Платона. Смерть его. Внешность и характер его. Политические убеждения и влияние на современников. Деятельность Платона. Школа и метод. Диалогическая форма Платоновых сочинений: ее преимущества и историческое значение. Художественность диалогов и неудобочитаемость их. Подлинность диалогов и невозможность классифицировать их. Отсутствие системы и характер Платоновых доктрин. Теории Шлейермахера и Германна. Хронологический порядок диалогов и разделение философской системы Платона на три отдела. Большинство жизнеописаний великих личностей древнего мира неминуемо должны страдать одним весьма крупным и существенным недостатком, а именно — неполнотою. Быть может, люди в те времена не менее интересовались личной жизнью своих выдающихся современников, чем теперь; но биографии, не говоря уже о дневниках и мемуарах, составлялись гораздо реже, чем ныне, когда “человеческий документ” стал одним из главных подспорьев исторической науки. К тому же писаное слово, увы, не пирамида и не может устоять ни против влияний долгих веков, ни против превратностей судьбы: оно легко теряется и погибает, так что если до нас и доходит литературный памятник древних времен, то скорее в виде исключения, нежели как правило. Не нужно также забывать и той небрежности, с какой люди тогда обращались с фактами: необходимость строгой проверки их не сознавалась еще особенно настоятельной, о критической оценке с точки зрения исторической или психологической их важности еще не было и помину. Результаты отсюда получаются весьма плачевные: дошедшие до нас сведения либо скудны, либо так неважны и маловероятны, что по ним можно составить что угодно, но никак не биографию, удовлетворяющую требованиям современного вкуса или науки. Обо всем этом приходится напоминать читателю на случай, если он вздумает посетовать на нас за те или другие пробелы в настоящем очерке. В биографах у Платона недостатка не было: начиная с ученика его Ксеократа и вплоть до Диогена Лаэрция во II веке по Р. X., целый ряд поклонников и писателей оставили после себя описания его жизни и учения; но большинство этих сочинений погибло, а те, которые до нас дошли, редко дают нам то, что нам нужно. Платон прожил 80 лет, но большая часть их, проведенная в тиши садов Академии и вдали от театра бурной практической деятельности, не могла представить много драматических моментов, какие мы привыкли встречать в жизни, например, общественных деятелей. Зато эти годы должны были быть богаты тем внутренним содержанием, которое вкладывается в жизнь развитием мощного человеческого духа. Великие мыслители, в противоположность поэтам, никогда не рождаются таковыми, а вырастают, и этот рост ни в ком не совершался· так беспрерывно, как в Платоне, который и перед смертью все еще продолжал работать мыслью и развивал свою систему. Проследить этот рост шаг за шагом, ступень за ступенью было бы, наверное, делом более интересным и поучительным, нежели описание каких бы то ни было событий внешней жизни; к сожалению, именно на этот счет древние биографы грешат, и грешат сильно. Несколько фактов, да и то сбивчивых, противоречивых и пересыпанных легендами,— вот все, что мы можем у них найти; искать же у них изображения психических процессов так же напрасно, как искать в священных книгах Вед изложения периодической системы или другой какой новейшей научной теории. Читатель поэтому не должен ожидать от нас многого: простое изложение фактов внешней жизни, насколько они нам известны, да изредка указания на некоторые обстоятельства, повлиявшие на мысль Платона,— вот все, что он найдет в этом очерке. Дать больше мы, к сожалению, не в состоянии. Книги, говорили древние, имеют свою судьбу: нередко, по-видимому, имеют ее и имена. Люди, которым имена Вольтера, Мольера или Меланхтона почти так же знакомы, как имена выдающихся современников, пожали бы плечами и, быть может, сочли бы за мистификацию, если бы им стали говорить о блестящем писателе Аруэ, или великом драматурге Покелене, или знаменитом деятеле Реформации Шварцерде. Точно так же, мы уверены, многие, которые приняли бы за обиду, если бы кто усомнился в их знакомстве с Платоном или его именем, пришли бы в недоумение, если бы им стали рассказывать о каком-то гениальном греческом философе Аристокле. Да, имена действительно имеют свою судьбу, и часто очень странную. В кругу своих современников, даже близко к нему стоящих, “божественный философ”, ученик Сократа и учитель Аристотеля, был известен не иначе, как Аристокл, и только после его смерти прозвище Платона, данное ему в шутку за его широкую грудь или, по другим преданиям, за его широкий лоб (от слова πλατηυ — ψирокий), приобрело мало-помалу такую популярность, что, наконец, вытеснило его прежнее имя и перешло в историю как настоящее. Конечно, имя — лишь звук пустой, покуда лицо или вещь, им обозначаемые, остаются теми же; все же нас несколько удивляет, когда мы узнаем, что имя известной нам личности совсем не то, под каким мы ее до сих пор знавали. Так оно и в данном случае, и на обязанности биографа поэтому лежит, не придавая всему этому большого значения, указать, однако, на ошибку, которую бессознательно делают, говоря о Платоне, а не об Аристокле. Год рождения нашего философа, по некоторым источникам, совпадает с годом смерти Перикла, т. е. 429 до Р. X., но, по некоторым соображениям, более заслуживает внимания другое мнение, утверждающее, что когда этот знаменитый государственный муж умер, Платону уже было около двух лет от роду. Мы склонны поэтому думать, что Платон увидел свет в 427 году до Р. X., мая 26 или 27. Место его рождения также представляет спорный пункт: на основании некоторых преданий одни ученые, как Грот, утверждают, что Платон родился на острове Эгина в Сароническом заливе, где тогда существовала афинская колония и где отец его владел участком земли; но другие, и они составляют подавляющее большинство, признают за родину Платона сами Афины, и именно один из подгородных кварталов, Колитт. Семья, к которой Платон принадлежал, была одна из древнейших и влиятельнейших в стране. Его отец Аристон был потомок знаменитого царя Кодра,— того самого, который не задумался пожертвовать на войне своей жизнью, узнав от оракула, что та из враждующих сторон победит, которая так или иначе лишится своего царя. Афиняне,— продолжает остроумное предание,— были так поражены благородством этого подвига, что отчаялись в возможности найти царю достойного преемника и объявили трон навсегда вакантным. Говорят также, что Кодр вел свое происхождение от бога моря Посейдона и, таким образом, являлся сам чуть ли не полубогом. Мать же Платона, Периктиона (а по другим источникам, Потона), происходила по прямой линии от Дропида, родственника и друга знаменитого мудреца Солона, а ее брат Хармид и кузен Критий принадлежали к высшей афинской аристократии, состоя впоследствии членами олигархических тридцати. Таким образом, все обстоятельства как бы складывались к тому, чтобы открыть юному Платону блестящую политическую карьеру; но мы увидим ниже, что они были бессильны вселить в него что-нибудь, кроме одного лишь отвращения к общественной деятельности, и косвенно таким образом привели его к той области, в которой ему суждено было занять такое высокое место. Все же знатность происхождения дала ему одно весьма крупное преимущество: она обеспечила ему тщательное и блестящее воспитание, какое только было доступно в то время. Мы мало знаем о годах, протекших со дня его рождения вплоть до встречи с Сократом; но древние писатели нас уверяют, что он учился много и прилежно. Способности его стали обнаруживаться рано, и во всех предметах тогдашнего образования он выказал прекрасные успехи. В гимнастических упражнениях, например, он так отличался благодаря сильному физическому сложению и природной ловкости, что стал одним из любимейших учеников своего учителя Аристона, который и дал ему это, ныне историческое, прозвище Платона. Говорят даже, что он выступал публично на национальных играх — Пифийских и Истмийских; но эти предания вряд ли заслуживают доверия. Гораздо вероятнее рассказы о выдающихся его успехах в музыке и поэзии. Учителем его был известный в свое время Дракон, и хотя подлинность дошедших до нас через Диогена Лаэрция стихотворений — главным образом лирических — более чем сомнительна, мы имеем, однако, полное основание верить, что долгое время карьера поэта была любимой его мечтой. Время расцвета греческой музы еще не прошло, и неудивительно, что молодому человеку, действительно обладавшему священной искрой таланта, лавры, стяжаемые Эврипидом и другими, причиняли бессонные ночи. Платон пробовал свои силы в различных родах поэзии — от эпиграмм до эротической лирики; но, по-видимому, больше всего напирал он на эпос и драму. Однако и от поэтической деятельности его в этих областях до нас не дошло никаких следов: написав обширную эпическую поэму, он вскоре сжег ее в бессильной ярости, сравнив ее с гомеровскими, и та же плачевная участь постигла его драматическую тетралогию, которая была уже почти готова для постановки на публичной сцене. В безвременной кончине этого детища, говорят, виновен был Сократ, встреча с которым вселила в Платона более высокое честолюбие, нежели желание затмить современных драматургов. Это, значит, было около 408 года, когда Платону шел уже двадцатый год. Еще до этого он успел познакомиться с философским учением Гераклита, и рой поднявшихся в его голове дум и сомнений заставил его, вероятно, обратиться к Сократу как к наиболее известному тогда учителю мудрости. К сожалению, до нас не дошло никаких сведений ни об отношениях между этими двумя замечательными личностями вообще, ни об умственном развитии Платона за это время в частности. Что он не сразу “осел у ног” Сократа, как выражался Алкивиад, и не сразу даже сдружился с ним, можно заключить из того, что Платон в это время продолжал изучать философию по другим системам, кроме сократовской, и к тому же часто принужден был отлучаться из города ввиду воинской повинности, которую он тогда отбывал. То был самый разгар Пелопоннесской войны, — самая тяжелая пора для афинского государства, когда флот его был разбит вдребезги и спартанцы принялись за блокаду Афин, засев лагерем в виду самого Акрополя. Жертвы и труды, которые тогда естественно выпадали на долю каждого афинского гражданина, были, конечно, неизбежны и для Платона, и хотя по разным причинам мы вряд ли можем верить тому, чтобы он участвовал в битвах при Танагре, Делии и Коринфе, как некоторые из древних его биографов уверяют, тем не менее, несомненно, что он видал кое-какие виды и не всегда имел время или возможность заниматься разработкой философских проблем. Как бы там, однако, ни было, но к концу жизни Сократа он был с ним в весьма близких отношениях и считался одним из любимейших его учеников. Мы знаем, например, что к процессу своего учителя Платон изготовил защитительную речь, которую он даже начал было произносить, но был согнан с трибуны дикими криками толпы. Он же был одним из тех, которые поручились в уплате 30 мин, предложенных Сократом в качестве штрафа, и только болезнь, — быть может, причиненная глубоким огорчением ввиду печального исхода процесса — удержала его дома в последний день жизни своего любимого наставника и друга. Лучше всего, однако, доказывает нам его привязанность к Сократу та беспредельная любовь, с какой он рисует портрет своего учителя в “Апологии” и “Федоне”; и даже самый тот факт, что он делает его главным собеседником в своих диалогах и развивает свое учение его устами, показывает нам, как он глубоко обожал эту личность и сознавал и ценил ее влияние на себя. Платон оставался в Афинах вплоть до самой смерти Сократа, — после чего начинаются, как один историк философии метко заметил, его Wanderjahre (годы странствований). Отчасти, вероятно, он сам не прочь был удалиться на время из города, где все напоминало ему дорогого человека и где все, казалось, дышало преступлением и невежеством; но главным образом, нужно полагать, оставил он родину из видов личной безопасности. Как всегда в таких случаях бывает, одной жертвой, хотя бы и наиболее ценной, дело вряд ли могло ограничиться: афиняне, вероятно, стали искоса и недружелюбно посматривать на всех тех, кто более или менее близко стояли к Сократу и считались его учениками. Очень может быть, что даже стали раздаваться уже голоса, взывающие ко власть предержащим окончательно искоренить крамолу, прекратить деморализацию и уничтожить последователей злокозненного учения Сократа, послав их вслед за их учителем. Подобных репрессий Платон со своей стороны тем скорее мог опасаться, что не был на хорошем счету у демократов, бывших тогда в силе, как благодаря своему аристократическому происхождению и родству с вожаками олигархической партии, так и ввиду известной его личной антипатии к тогдашнему государственному порядку. Философ счел поэтому благоразумным не выжидать дальнейших событий и заблаговременно удалиться, — что он и сделал. Первым его этапом был остров Мегара, где уже подвизался с успехом один из самых выдающихся учеников Сократа — Эвклид. Этого мыслителя не следует смешивать с другим, еще более знаменитым, того же имени, который жил в Александрии приблизительно одним столетием позже и дал человечеству науку геометрии. Эвклид из Мегары был один из благороднейших людей того времени по уму и характеру и так обожал Сократа, что часто, когда въезд мегарийцам в Афины, по случаю их недавнего восстания, был воспрещен под страхом смерти, он, несмотря ни на что, ночью, тайком, переодевшись, пробирался в город к любимому учителю. Правоверным учеником его он, однако, не остался, но удержал Сократово учение о благе и, сочетав его с элеатской доктриной о едином и вечном, основал отдельную школу мегарийцев, которая в свое время имела немало влияния на греческую мысль. И для Платона, как это нам показывают некоторые черты его философии, встреча с Эвклидом имела немаловажное значение как в смысле развития миросозерцания, так даже в деле приобретения и увеличения знаний. Как долго он там оставался, мы не знаем в точности; вероятно, недолго, потому что вскоре мы застаем его уже в другом месте, а именно — в Киренах. Здесь берет он уроки математики у знаменитого геометра Феодора и так успевает в ней, что долго после того считается одним из выдающихся математиков своего времени. Он, говорят, первый разрешил известную в свое время задачу об удвоении куба, изобрел какие-то особенные часы и считался автором теории конических сечений. Некоторые древние писатели уверяют даже, что знанию математики Платон придавал такое значение, что впоследствии сделал на воротах своей школы надпись, гласившую, что доступ в нее открыт только для тех, кто знает геометрию. Обилие в некоторых платоновских диалогах иллюстраций, взятых из области математики, или ссылок на нее, равно как и некоторые позднейшие его доктрины, казалось бы, подтверждают такого рода предания; но на беду, как нам передают другие с большей тенью правдоподобия, подобная надпись существовала уже раньше на воротах школы Пифагора (“никто, кроме геометра, да не войдет сюда”), да и в самих диалогах Платона мы не встречаем ни разу мысли, которая выражала бы подобное его убеждение в преобладающем значении математических знаний. Нам приходится поэтому признать вышеупомянутое предание за выдумку позднейшей фабрикации, хотя мы и не можем отрицать сильного впечатления, оказанного на ум Платона методом и истинами математики. Этим последним обстоятельством, вероятно, и объясняется его поездка, после пребывания в Киренах, в Египет, где тогда, как и долгое время после, математические науки культивировались с успехом и любовью. Египет, как известно, слыл в древности страною чудес. Все в нем поражало народное воображение: и могучий Нил, и исполинские пирамиды, и кастовый принцип организации, и таинственная религия, и язык, и письмена. Легендам об этой стране не было конца: они возникали и распространялись с поразительной быстротой, и люди, как в очаровании, прислушивались к рассказам о чудовищных крокодилах, пожирающих свои жертвы с кровавыми слезами на глазах, о гранитных колоссах, встречающих мелодичными звуками первые лучи восходящего солнца, и о многом другом, столь же странном и необычайном. Путешественники съезжались туда со всех концов тогдашнего образованного мира, и глазам их представлялась действительность, нисколько не ниже их ожиданий. Особенно поражали их чудеса, совершенные в этой стране фараонов науками теоретическими, а еще более прикладными: астрономические предсказания, инженерные сооружения, каналы, мосты и шоссе и многое другое в области механических изобретений казалось делом рук не обыкновенных смертных, а каких-то чародеев. Этими чародеями являлась жреческая каста. Окруженные богатством и великолепием, члены ее, действительно державшие в своих руках всю ученость тогдашней цивилизации, умели обставить себя такой таинственностью и хранить про себя все знания с такой ревнивой заботливостью, что казались наивным умам того времени существами высшего типа, постигшими все тайны человеческие и божеские. К ним стекались со всех сторон пытливые личности, жаждущие знания и влекомые таинственным их обаянием: они учились у них геометрии, астрономии и механике, они старались проникнуть в их среду, добивались посвящения в их эзотерические учения и готовы были посвятить целые годы, чтобы почерпнуть хоть малую долю их мудрости. В древней Греции не было ни одного великого человека, который бы не побывал в этой удивительной стране; по крайней мере, нет ни одного, которому предания, с целью возвеличить его мудрость еще больше, не приписывали долголетнего пребывания среди египетских жрецов. Тут были и Солон, и Пифагор, и Демокрит, и Геродот,— тут был и Платон. На всех этих выдающихся людей Египет оказал более или менее сильное впечатление, но ни на ком из них египетские влияния не сказались с меньшей силою, как на Платоне. Страбон, в общем довольно почтительно относившийся к фактам, уверяет нас, что Платон пробыл в Гелиополе целых 13 лет и что ему даже указывали дом, где Платон проживал все это время. Гиперболичность такого заверения слишком очевидна, чтобы его можно было принять на веру, и действительно, по разным другим соображениям, мы никак не можем допустить, чтобы Платон прожил в Египте более трех лет. Ввиду такого его кратковременного пребывания там результаты не могли получиться особенно прочные: вряд ли можно допустить, чтобы за такое сравнительно ничтожное время Платон мог в достаточной степени и снискать доверие жрецов, и войти в их среду, и изучить их философские доктрины. Но если бы даже Платон и преуспел во всем этом, то все же он был еще слишком грек своего времени, с некоторою наклонностью к скептицизму, чтобы проникнуться восточным мистицизмом этих доктрин в такой степени, в какой люди проникались двумя-тремя веками позже. И действительно, ни в одном из его сочинений мы не встречаем следов каких бы то ни было египетских влияний, тем менее — цельных доктрин. Все же, что несколько напоминает нам в его философии учения Египта, следует приписать влияниям другой школы, а именно пифагорейской. Итак, мы вправе заключить, что из своего пребывания в Египте Платон не вынес ничего, кроме разве усовершенствованных знаний по астрономии. Мы даже вправе усомниться, успел ли он познакомиться хотя бы с внешним бытом этой страны,— так слабы и неопределенны замечания на этот счет, разбросанные там и сям в его диалогах. Правда, в своей “Республике” он говорит о строгом разграничении общественного труда, обязанностей, прав и о соответствующем строгом подразделении народа на сословия; но он тут же лишает последних характера каст, ставя принадлежность к тому или другому из них в зависимость не от рождения, а от способностей и наклонностей. Короткий период его жизни, непосредственно следовавший за его поездкою в Египет, остался для нас темным и невыясненным. Одни предания переносят его в Малую Азию, в Персию, и затем даже в Индию, где он будто бы изучает премудрость Зороастра и Будды, халдеев и браминов; но все это, понятное дело, относится к области мифов, которых, как мы уже имели на то примеры, собралось так много вокруг фигуры нашего философа. Другие же с большим правдоподобием говорят, что незадолго до сорокового года своей жизни он, наконец, вернулся в Грецию и после 13-летнего отсутствия вновь посетил свои родные Афины. Если это так, то странный психический момент должен был тогда пережить Платон, уехавший почти юношей и вернувшийся назад зрелым мужем, умудренным опытом, с пробивающеюся уже там и здесь сединою в волосах! Все было знакомо и вместе с тем чуждо; давно забытые картины представали перед его взором, но он тщетно искал бы среди них друзей своей юности, а главное,— то дорогое лицо, речам которого он некогда так жадно внимал. Быть может, именно этого рода воспоминания не дали ему успокоиться, потому что уже вскоре после того, около 388 года, мы застаем его в Великой Греции, где тогда ютились эмигрировавшие со всех сторон пифагорейцы. Эта философская школа была одной из самых влиятельных и самых оригинальных школ древности. Основанная знаменитым математиком Пифагором (кто из нашего учащегося юношества не знает и, в девяти случаях из десяти, не клянет его имени?) в период, предшествовавший Сократу, эта школа процветала вплоть до распространения христианского миросозерцания, соперничая и часто превосходя во влиянии философию самого Платона. В эпоху римской империи она сыграла большую роль в смысле подготовки умов к восприятию учения Великого Галилеянина, но и в самой Греции ее влияние на развитие мысли было огромно. Особенно решающее значение она имела для Платона,— а потому нам необходимо сказать пару слов относительно этой замечательной философской системы. В основе ее лежит учение о числах как о сущностях вещей. Весь видимый мир есть не что иное, как воплощение этих чисел, и все отношения чувственных предметов между собой суть в действительности не что иное, как отношения заключенных в них чисел. Вселенная бесконечна в пространстве и времени, и ею правит единое божество, столь же вечное и беспредельное, как и сам мир. Везде царствует та гармония, которую мы находим в музыке, и даже небесные сферы находятся одна от другой на таких интервалах, соответствующих музыкальным — октаве, терции, кварте и др., — что при вращении они издают божественно гармоничную мелодию. Земля — и это провозглашено было за двадцать веков до Коперника — движется вокруг своей оси и вокруг солнца, так что последнее составляет центр всей планетной системы, вкруг него обращающейся. Сама душа есть живая гармония, приводящая в движение тело — ее темницу. Она бессмертна и за время своего земного существования проходит через ряд тел — то высшее, то низшее, то благородное, то презренное — смотря по тому, насколько она добродетельна. Отсюда необходимость безупречной жизни. Человек в сущности есть душа: тело лишь оболочка, которую следует подчинить интересам ее обитательницы; отсюда значение аскетизма как средства сохранить душу в надлежащем состоянии. Пифагорейцы жили всегда обособленными обществами, где царствовал полный коммунизм. Новые члены допускались не иначе, как после тяжелых испытаний и искусов, и обязаны были беспрекословно повиноваться старшим. На всем лежал глубокий мистически-нравственный отпечаток, какой в прошлом столетии носили масонские ложи. Везде царила суровая дисциплина, мясная пища была воспрещена, а ежедневная исповедь вместе с посвящением в таинства эзотерических учений делала из этой школы чрезвычайно своеобразную секту. Знакомство со всем этим имело, как мы выше сказали, первостепенное значение для выяснения Платоном его собственного миросозерцания, и несомненно, что без этого знакомства содержание платоновской философии было бы во многих отношениях другим, чем то, какое знает история. Правда, к этому времени мысль Платона уже стала слагаться в определенные формы, и, быть может, в кругу своих близких знакомых он уже успел приобрести репутацию сильного и даже оригинального мыслителя; но только после посещения им пифагорейских общин можем мы сказать, что основные положения его будущей системы были окончательно заложены и в общем систематизированы. Учение пифагорейцев о числах должно было если не прямо натолкнуть, то, во всяком случае, косвенно содействовать развитию учения Платона об идеях как о реальных сущностях видимых и невидимых предметов познавания: и те, и другие, то есть и числа, и идеи, были абсолютными первообразами вещей с той лишь разницей, что количественный характер первых был значительно уже качественной природы вторых. Еще более бросается в глаза сходство — по временам доходящее до тождества — некоторых других пунктов обеих систем: учения о космосе, о всеобщей гармонии, о душе и даже о переселении ее до того аналогичны, что враги Платона на основании этого обвиняли его в плагиате у знаменитого пифагорейца Филолая. Даже общественная организация пифагорейцев с ее коммунистическими принципами и аристократическими тенденциями оказала влияние на политические идеалы Платона, как они выразились в его “Республике”. Все это, в совокупности взятое, дает нам полное основание думать, что, после собственного гения, наибольшую роль в развитии платоновской мысли сыграла философия Пифагора: даже сократовская, несмотря на ее первоклассное значение для Платона, уступает ей в этом, не говоря уже о других школах того времени. Из Южной Италии (Великой Греции) Платон поехал на соседний остров Сицилию, и здесь начинаются те странные, почти романтические его приключения, которые, если только они достоверны, в высшей степени любопытны в смысле освещения как личности нашего философа, так и всей тогдашней эпохи. Говорим “если только они достоверны”, потому что главным авторитетом, свидетельствующим о них, является Плутарх, в свою очередь основывавшийся на одном из Платоновых писем, подлинность которого в настоящее время признана сомнительной. Мы поэтому не в состоянии ручаться за достоверность нижеследующего, но к нему можно смело применить известную пословицу: se non è vero, è ben trovato (åсли это и не верно, то хорошо придумано). В Сиракузах, главном городе Сицилии, правил тогда известный тиран Дионисий Старший — один из замечательнейших людей древности и во многих отношениях похожий на нашего Иоанна Грозного. Энергичный, суровый, честолюбивый, с выдающимися способностями, он сумел захватить верховную власть, опрокинуть демократическую конституцию и основать могущественнейшее государство на берегах и островах Средиземного моря. Он успешно боролся с Карфагеном и Афинами, объединил под своей властью большую часть Сицилии и поставил в зависимость от себя все южное побережье Аппенинского полуострова. Дионисий лишил народ даже тени его прежней свободы, обложил его тяжелыми податями и налогами, но успел основать обширную морскую торговлю, привлекавшую громадные богатства в его собственные сундуки и сундуки тогдашней коммерческой буржуазии. Вместе с тем он далеко не был варваром и выскочкой. Благодаря своему аристократическому происхождению Дионисий еще в детстве приобрел обширные знания, а теперь, на высоте своей власти, охотно культивировал науки и искусства, строил блестящие храмы и другие общественные здания, привлекал к себе знаменитостей в философии и литературе и даже сам небезуспешно выступал в качестве автора. Через общих пифагорейских знакомых он пригласил к себе и Платона, который тем охотнее принял приглашение, что имел при сиракузском дворе юного, но восторженного поклонника в лице Диона, шурина тирана. Этот — тогда еще вряд ли 20 лет от роду — молодой человек, которого Плутарх счел достойным включить в свою галерею знаменитых личностей, действительно выгодно выделялся среди придворных умом, характером и возвышенными стремлениями. Платон сильно понадеялся на его влияние в качестве любимца Дионисия и счел своим долгом вмешаться в государственные дела и критиковать внутреннюю политику тирана. Естественно, что последнему непрошеные советы и замечания Платона были не по вкусу, и, когда глубоко уверенный в правоте своих убеждений философ принялся горячо доказывать ему, что единоличное правление ненормально и идет вразрез с требованиями народного блага и что поэтому, если он, Дионисий, действительно печется о благосостоянии страны, то он должен ограничить свою власть, Дионисий рассвирепел. Он хотел немедленно, тут же, расправиться с ним по-свойски, но был удержан Дионом. Тогда тиран передал злополучного философа на руки спартанскому послу Поллиду, отплывавшему из Сиракуз, наказав ему строго-настрого как-нибудь спровадить назойливого мудреца. Нравы, как читатель видит, довольно-таки оригинальные, и этим плачевным инцидентом, быть может, и закончилась бы как философская, так и сама жизненная карьера Платона, если бы Поллид не смилостивился и не продал его в рабство на острове Эгина. Здесь некий Анницерид, сам причастный к философии, выкупил его за 30 мин и отпустил на все четыре стороны. Говорят, что Дионисий не угомонился и выпустил против Платона пасквиль; но другие утверждают, что, напротив, он глубоко раскаялся в своем поступке и даже написал философу извинительное письмо, на которое последний только и ответил, что он слишком занят, чтобы думать о каких-то Дионисиях. Это происходило около 367 года. Спустя ровно 20 лет Платону, тогда уже старцу, пришлось вторично ездить в Сиракузы. Прежний тиран только что умер, и на престол вступил его сын Дионисий Младший, — во всем почти прямая противоположность отцу. Ленивый и неспособный, он к тому же еще получил поверхностное воспитание, которого вовсе не думал пополнять. Новый тиран предпочитал худой мир доброй ссоре, и, несмотря на то, что города, крепко сплоченные под железной рукою отца, стали отпадать один за другим, он весьма неохотно предпринимал меры против угрожавшей ему опасности, предпочитая утопать в разврате и наслаждениях огромного и пышного двора. В первые годы, однако, на него имел большое и благодетельное влияние все тот же Дион, и это обстоятельство побудило Платона предпринять вторую поездку в негостеприимную столицу Сицилии. Дело в том, что он уже тогда лелеял проект совершенного политического строя, и здесь, в положении молодого и поддающегося влияниям тирана Сиракузского, думал он найти возможность осуществить свой проект. Но он ошибся в расчете, забыв, что влияния могут быть разные, и что Дионисий, в данный момент прислушивающийся к строгим нотациям Диона, может в другой момент еще внимательнее прислушиваться к речам иного рода, идущим более в унисон с его собственными желаниями и инстинктами. Так оно и было. Попытавшись уговорить Дионисия самому взяться за дело и перестроить политическую организацию Сиракуз на платоновский лад, философ сразу увидел, что добивается невозможного: никто сам себе не враг, — тем менее государь, поставленный в такие выгодные условия, как Дионисий. К тому же тиран был не один, а вкруг него стояла, как всегда бывает, обширная камарилья, для которой всякий другой образ правления — будь то правление философов или другое какое — означал если не верную гибель, то во всяком случае несомненный урон для карманов. Естественно, что Платон получил отпор, и когда, как говорят, он пошел на уступки и попросил у Дионисия хотя бы клочка земли и немного людей, чтобы устроить опыт в виде колонии, то и тут не встретил ничего другого, кроме враждебных насмешек и угроз. Он счел поэтому благоразумным уехать, и Дион, который считался виновником его приезда и поддерживал его во всем, был обвинен в честолюбивых замыслах — в посягательстве на трон — и изгнан. Таким образом, Платон вторично потерпел фиаско. Но и этого, очевидно, было мало для коварной судьбы: Платону суждено было встретить неудачу на том же поле и в третий раз. В 361 году, то есть шесть лет спустя после вышерассказанного, философ, движимый рыцарским чувством и искренним расположением к Диону, решился на попытку примирить его с Дионисием. Сгорбленный под тяжестью лет Платон в третий раз плывет на Сиракузы для объяснения с тираном, но, увы, его опять постигает неудача,— на этот раз еще более полная, нежели прежде. Молодой правитель успел за это время вырасти в большого деспота, не терпящего никаких вмешательств ни в общественные, ни в его личные дела. Он так раздражен был дерзостью Платона, что последний едва опять не поплатился жизнью; но и на этот раз его спас пифагореец-философ Архит, который заступился за него и смягчил гнев тирана. Платон вернулся в Афины и с тех пор больше не ездил в Сиракузы. Дион же так и остался непримиренным с Дионисием и позднее, в 358 году, высадившись на Сицилии во главе армии своих приверженцев, прогнал тирана и сам сел на его место. Сочувствовал ли Платон этой экспедиции своего ученика и друга и радовался ли он счастливому ее исходу, мы не знаем: вероятно — да; но если он мечтал видеть свои политические идеалы теперь, после стольких неудач, наконец реализованными, то ему пришлось испить чашу разочарования до конца. Не то чтобы Дион изменил своим убеждениям и сжег все, чему поклонялся во дни своей юности и оппозиции; о нет, до этого, слава Богу, дело не дошло; он лишь изверился в своевременности и осуществимости их и считал, подобно нашей Екатерине II, что конституции хорошо чертить на бумаге, но никак не на шкурах живых людей. Уловка была недостойная и должна была внести немало горечи в сердца людей, поддерживавших его, а особенно в сердце Платона. Дион был убит спустя пять лет после своего воцарения одним из своих приближенных, и среди последовавших смут Дионисию удалось вернуться и снова занять свой престол. Но Платон уже не дожил до этого. В тиши своей школы он прожил последние 14 лет своей жизни, спокойно и безмятежно занимаясь разработкой своей философии. Мы ничего не знаем о том, что происходило за эти долгие годы: вероятно, они не блистали событиями, как это естественно ожидать от жизни всякого человека его лет и занятий. Он умер в глубокой старости, 80 лет от роду, в 347 году до Р. X., и был похоронен в Керамике, неподалеку от Академии, где еще долго спустя показывали его гробницу. Читатель теперь видит, как скудны наши сведения о судьбе этого замечательного человека; но если мы обратимся теперь к его личности, то и здесь встретим не меньшую сбивчивость и неполноту. Прежде всего о его наружности. Наши музеи полны его бюстами и масками, но чем ближе мы их изучаем, тем менее мы доверяем им. Ни один из портретов его, дошедших до нас, не вышел из-под резца современника: все они сделаны значительно позднее, и служил ли им моделью какой-нибудь достоверный бюст Платона, или рукою художников водило одно лишь воображение,— у нас нет теперь никакой возможности решить. Все эти портреты разнятся один от другого довольно значительно, и очень часто взаимное их несходство доходит до крайних пределов. Существует, однако, один бюст, который принято считать наиболее достоверным, и с него-то сделаны все снимки и слепки, продающиеся в наших магазинах. Платон изображен зрелым мужем, с большою, слегка наклоненной вперед головой, украшенной длинной бородой и густыми, охваченными повязкой волосами. Его лицо с крупными, но чрезвычайно изящными чертами носит задумчивое выражение; его глаза, устремленные куда-то вниз, чуть-чуть прищурены, как бы пристально вглядываясь в несущиеся перед их взором туманные образы, а его чело, полу скрытое повязкой, изборождено у переносицы глубокими складками, в которых, так и видно, засела крепкая дума. Весь бюст мог бы служить эмблемою мысли, благородной и всеобъемлющей; на нем лежит отпечаток чего-то недосягаемо высокого, чуть ли не сверхчеловеческого, и при первом же взгляде на него у вас вырывается восклицание, что именно так должен был выглядеть этот “божественный философ”. Увы, это только показывает, как хорошо умел художник схватить и воплотить в мраморе все те черты, которые соответствуют нашему представлению о Платоне; но, как сказано, мы решительно не в состоянии определить, в какой степени этот бюст достоверен; быть может, Платон в нем идеализирован, а быть может, такого Платона не было вовсе. Не лучше обстоит с нашими сведениями о его характере. Платон имел много врагов, как политических и философских, так и личных. Клевете и наветам поэтому не было конца. Его обвиняли в надменности, завистливости и непомерном честолюбии: киник Диоген говаривал, что в самом желании Платона не казаться гордым скрывается страшная гордость, а пылкий Аполлодор в порыве ненависти воскликнул однажды, что он с большей готовностью принял бы от Сократа чашу с ядом, нежели из рук Платона кубок вина. Ему приписывали крайнюю неуживчивость, раздражительность и ревность к чужой славе, и его представляли позднейшие предания ссорящимся с Ксенофонтом, Аристиппом, Аристотелем, и даже бросающим грязью в память самого Сократа. Его поведение, дальше, выставляли как прямую противоположность тому, чему он учил в своей этике, и к Дионисию, говорили, он ездил потому, что слыхал много хорошего... о сиракузской кухне! Ему отказывали даже в таланте и оригинальности, говоря, что большинство его диалогов написаны были вовсе не им, а Антисфеном, Аристиппом и другими философами того времени и что “Тимей”, одно из главных его сочинений, представляет не что иное, как пересказ одной пифагорейской книги, приобретенной им за баснословную цену в 100 мин! Ему, наконец, отказывали даже в том, что составляло, по тогдашним понятиям, неотъемлемую принадлежность всякого свободного человека,— в материальной независимости: поговаривали, что он был беден, нуждался и должен был для снискания себе пропитания торговать оливковым маслом. Он даже собирался будто бы наняться в солдаты. На все это, без сомнения, нам приходится смотреть, как на выдумки. Мы знаем очень хорошо, что, за исключением, быть может, некоторой размолвки с Аристотелем, Платон довольно легко уживался со всеми наиболее выдающимися из своих современников; что он ездил к Дионисию вовсе не за тем, чтобы приятно поесть и попить; что он действительно обладал гением — не говоря уже о таланте — в достаточной степени, чтобы написать самому свои диалоги, и что он, наконец, довольно хорошо был обеспечен материально — наследством и подарками,— чтобы не быть вынужденным сделаться торговцем или солдатом. При всем том нет дыма без огня, и как бы преувеличены ни были дурные слухи о нем, мы не можем совершенно игнорировать их. Мы знаем Платона главным образом из его же сочинений и в силу весьма обычного и естественного заблуждения никак не можем допустить, чтобы человек, написавший эти вещи, полные воображения, теплоты чувства и всякой красоты внешней и внутренней, был менее прекрасен, нежели его творения. Конечно, это ошибочно, и мы знаем много тому примеров, когда за поэтическими страницами или вдохновенными произведениями искусства скрывается личность творца их, столь же прозаическая и неинтересная, как и простых смертных. Два обстоятельства, однако, способствовали более, нежели всякие личные его недостатки, нравственному умалению Платона в глазах современников,— и на них нам следует остановиться. Сократ был еще жив в памяти людей. Многие, а особенно бывшие ученики его, еще отчетливо помнили эту странную фигуру, где под отталкивающей внешностью Силена скрывалась чуткая, нервная и нежная натура. Нищий, оборванный, но богатый духом и бодрый, шатался он по открытым местам города, всем доступный, ко всем относящийся с отеческой ласковостью, вступая в разговоры с первым попавшимся ему на пути человеком и в свою очередь охотно отвечая на задаваемые ему вопросы. Он не гнушался и не чуждался никого, какое бы положение в обществе тот ни занимал; он никогда не заносился ни перед противниками, ни перед учениками, но, напротив, старался всегда стать с ними на одну доску, чуждый высокомерия, догматизма или резонерства. Он никогда не поучал, не разыгрывал из себя мудреца, но со страстной настойчивостью искал истины, готовый признать ее, из чьих бы уст она ни исходила. Шутливый и простой в обращении, он был плебей по речам и приемам, но умел вместе с тем ревниво ограждать свою гордую независимость, не беря денег ни от кого и отказываясь даже от подарков. Не таков был Платон. Изящный и щегольски одетый, он поражал аристократичностью своих манер и умел держать себя на почтительном расстоянии от всех. Дух высокий, но холодный, как горная вершина, он не допускал к себе никого, кроме избранных,— да и с теми не разделял ни своих заветных дум, ни своих затаенных чувств. Он счел бы для себя унижением и позором выйти на площадь или улицу и диспутировать там с кожевником или плотником. Он замыкался в свою школу, как замыкался в своем сердце, и только молодые люди хорошего происхождения и воспитания имели туда доступ в качестве учеников. То были все прекрасно одетые, гладко причесанные, надушенные и напомаженные юные аристократы с салонными манерами, джентльменской поступью и речью. Платон не любил противоречий и не терпел панибратства; тон его речей был внушительный и серьезный, не озаряясь улыбкой, не прорываясь страстью. Он не брал платы за учение, но он без упрямства и с достоинством принимал подарки от учеников и посторонних людей. Сравнение, гласит пословица, завистливо, и когда люди ставили рядом эти две фигуры — Сократа и Платона,— они не могли не замечать, как далеко в сторону отклонился ученик от заветов учителя. Мантию знаменитого предшественника носить никогда не легко: она всегда оттягивает плечи; но когда преемник действительно в том или другом отношении оказывается ниже своего предшественника, мантия волочится по земле, несущий ее запутывается в складках, и окружающие то смеются, то негодуют. Платон в умственном отношении вполне сравним со своим учителем, но нравственностью далеко не был ему равен; что же удивительного, что, помещенный рядом с солнцем, он, хоть и сам звезда не последней величины, совсем лишился блеска в глазах современников? Политические разногласия также внесли свою долю — и даже крупную — в личную непопулярность Платона. Афинское общество — если выпустить на время из внимания институт рабства, на котором оно зиждилось,— было насквозь проникнуто сильным демократическим духом, которому всякого рода аристократизм — на деле или в словах и манерах — был ненавистен. Оно первым в ряду всех европейских обществ выработало тип демократической конституции, какого не удалось достичь впоследствии ни одному из других государств древнего и нового мира; оно естественно дорожило им и ревниво оберегало его честь и неприкосновенность. Платон же, как сказано выше, по рождению, традициям, связям и личным симпатиям, был аристократом до мозга костей. Он принадлежал к тому классу поземельных собственников Аттики, которые оставались неизменными друзьями Спарты и готовы были пожертвовать всем великим прошлым, протекшим со времени Солона, лишь бы вернуть то время, когда власть принадлежала им. Они были ярыми врагами демократии — этого режима “кожевников и плотников”, и беспрестанно интриговали — явно и тайно — с целью ниспровергнуть народное правление и заменить его олигархическим. Платон, тогда еще молодой юноша, один из первых рукоплескал водворению пресловутых тридцати тиранов, приобретших такую позорную репутацию в летописях Афин и всей истории. Но в нем еще живы были человеческие чувства, да и не настолько он еще был политиком, чтобы во имя принципа закрыть глаза на средства, употреблявшиеся для его реализации. Свирепая и беспощадная жестокость, с какою тираны,— а во главе их стояли Платоновы же родственники, Критий и Хармид,— принялись за искоренение демократической “крамолы” и водворение “спокойствия и порядка”, сильно оттолкнула впечатлительного юношу; когда же они попытались наложить руку на самого Сократа, Платон с болью в сердце принужден был совершенно отвернуться от них. Его идолы пали и разбились вдребезги, но с народом это его не примирило. Напротив, если лучшие, наиболее образованные и благоразумные люди, какими, во мнении Платона, были олигархи, оказались ниже возлагаемых на них надежд, то чего можно ожидать от невежественной толпы, не руководимой ни политическими, ни внешними идеалами? Олигархи лишь пытались зажать Сократу рот, но демократы его убили: что ж, последние лучше? Как бы ни была дурна олигархия как форма правления, демократия ничуть не лучше ее, и человеку, дорожащему своей нравственной чистоплотностью и независимостью, не остается ничего другого, как сторониться и тех, и других. Пусть же он совсем откажется от общественной деятельности и выжидает время, когда выработаются лучшие элементы, из которых возможно будет создать новый, высший класс правителей. Пока же было бы смешно ожидать чего-нибудь от народа как такового: его следует всегда держать в черном теле, под крепкой вожжой, дабы не развернулись его стихийные страсти и зверские аппетиты. И именно с этой точки зрения деятельность какого-нибудь Перикла является в высшей степени пагубной: этот человек во имя ложного идеала сделал сюзереном это многоголовое чудовище — народ, сняв с него спасительные узды и возведши его дикие капризы в закон. Так рассуждал Платон,— и общественное мнение осудило его. Был ли он прав или нет,— здесь не место решать; но мы без труда можем понять, какие злобные нападки должны были вызвать подобного рода политические и общественные убеждения. Теоретические разногласия редко переходят на личную почву, но когда они касаются господствующего миросозерцания — политического или религиозного,— диссидент становится врагом общества и еретиком, подлежащим искоренению. Тенденции эпохи (свободная жизнь Эллады уже близилась к концу) и собственная слава Платона ограждали его личную безопасность от всякого покушения на нее,— но доброго имени его они не спасли. Есть, однако, и другая сторона медали. Наряду с клеветой и наветами до нас дошли многочисленные факты, показывающие, что еще больше, нежели ненависть, он сумел внушить своим современникам удивление и поклонение. Его духовная мощь поражала воображение людей с неотразимой силой, и вместе с Пифагором и Александром Великим его личность, хотя и принадлежавшая к историческому периоду Греции, стала любимейшим образом народных сказаний. Он вырастал в глазах массы до чудовищных размеров — точь-в-точь как исполинская гора в час вечерних сумерек, и подобно национальным героям-полубогам, вроде Геркулеса и Тезея, окружался ореолом какого-то мифического существа. Легенды возводили его генеалогию к самому Олимпу и с таинственной важностью уверяли, что отцом его был сам Аполлон, бог света и поэзии. Правда, Периктиона была замужем за Аристоном, но прекрасный бог имел с нею сожительство еще раньше, когда она была девственницей, и в день свадьбы явился ее мужу, наказывая ему не касаться жены в течение всех последующих 10 месяцев, пока не родится от нее его собственный сын — Платон. Сам день рождения философа легенды приурочили к тому дню, когда, по преданию, родился и Аполлон, и они дальше передают нам чудеса, которыми это событие ознаменовалось. Родители Платона решили посвятить его Аполлону, Музам и Пану, и когда, при торжественных жертвоприношениях, они произносили надлежащий обет, пчелы с соседнего Гимета слетались к колыбели младенца и клали мед на его уста. Отсюда-де сладость его речей, когда он вырос! Столь же прелестным мифом украшена и первая встреча Платона со своим великим учителем. Однажды Сократу приснилось, что к нему прилетел прекрасный лебедь — священная птица Аполлона— и, покормившись из его рук, вновь улетел в небеса, издавая дивную мелодию. Как раз назавтра брат Платона, Главкон, привел его к Сократу, и последний тогда понял смысл своего чудного сна. Самой, наконец, смерти философа старались придать какой-то особенный, мистический характер: он умирает то на брачном пиру, то во сне, и не на 80-м году своей жизни, а на 81-м — так как число 81 представляет квадрат 9 — числа муз! Сами по себе, конечно, подобные рассказы могут интересовать лишь детей младшего возраста; но они и для нас, тем не менее, любопытны как указание на то, как рано во мнении людей Платон стал “божественным” философом. Слава его распространилась по всем углам тогдашнего цивилизованного мира; к нему стекались со всех концов Греции ученики и поклонники; выдающиеся государи, вроде Дионисия Сиракузского и Пердикка Македонского, обращались к нему за советами и искали его дружбы, и говорят даже, что фивяне и аркадцы обратились к нему с просьбой составить им проект государственного уложения. Он был предметом всеобщего уважения, и когда в 360 году, как передают некоторые писатели, философ явился на Олимпийские празднества, народ расступался перед ним как перед национальным героем; все взоры обратились к нему, на него указывали пальцами — и атлеты на миг были забыты. Таков был этот замечательный человек. Мы не в состоянии среди всей этой массы противоречивых свидетельств произнести над его нравственным характером решительного и окончательного приговора. Он не внушал любви, но он импонировал своим дивным гением, и мы можем лишь повторить с Льюисом, что, не имея друзей, он, однако, имел горячих поклонников. Обратимся теперь к его деятельности. Когда она, собственно, началась, нам в точности не известно, но, вероятно, около того времени, когда он после злополучной своей первой поездки на Сицилию вернулся в Афины, т. е. около 386 года. Именно тогда основана была его школа, впоследствии приобретшая всемирную известность: то была знаменитая Академия — ныне обиходное слово,— названная так по соседней роще, посвященной древнему герою Гекамеду. Она находилась неподалеку от Афин, по дороге в Элевсин, и была выстроена на земле, приобретенной учениками Платона, после того как Анницерид, выкупивший философа, решительно отказался от какого бы то ни было вознаграждения за понесенные убытки. Это место стало священной Меккою для образованных людей древности, и еще долго — целые века — после смерти Платона сюда стекались греки, римляне и варвары, чтобы поучиться у даровитых его преемников и прислушаться к шелесту крыльев витающего здесь гения. Платон, как известно, никогда не был женат и не оставил после себя прямых наследников: Академия поэтому осталась как бы корпоративной собственностью всей школы, а в частности того философа, который в данное время стоял во главе ее. Таковые были, например, Спевзипп, Ксенократ и другие, на которых преемственно падала мантия Платона. Каждый год в день его кончины там совершались жертвоприношения и возлияния, как бы в честь божества, и ученики, увенчанные цветами, отправлялись к дорогой гробнице на поклонение. В своем преподавании Платон в общем придерживался того метода, которым с такими блестящими результатами пользовался Сократ. За немногими исключениями, когда ему приходилось давать связную лекцию по какому-нибудь вопросу, Платон излагал свои мысли путем диалектическим, т. е. при помощи вопросов, ответов и вообще совместной с учениками разработки основных положений. Само собой разумеется, что роль учеников при этом была более мнимая, нежели реальная: нить разговора была в руках у самого Платона, который не давал своим собеседникам отклоняться от нее в ту или другую сторону и умел искусно наперед намечать желательные ему ответы или вопросы. От этого диалектический способ изложения приобретает у него не столько существенный, сколько формальный характер,— как раз противоположный тому, какой этот способ имел у Сократа, имевшего дело не с официальными учениками, спорящими по программе, а с широкой публикой, с которой приходилось аргументировать всерьез, а не для вида только. Все же и у Платона диалектика играла некоторую роль, пробуждая в учениках не одно лишь пассивное внимание, но и активную работу мышления. Кроме того, она давала возможность приводить иллюстрации и факты с целью то рельефнее выделить необходимые признаки данного понятия, то привести в надлежащие пределы содержание данного определения, то возможно ярче осветить какую-нибудь сложную мысль. Эти выгоды диалектического способа развития мыслей Платон ценил так высоко, что перенес его и в литературные свои произведения. Как известно, Сократ излагал свое учение только устно; Платон же, в противоположность ему, написал целый ряд сочинений, названных диалогами ввиду разговорной формы, в которую они облечены. В древности, благодаря отсутствию книгопечатания и связанных с ним искусств и ремесел, писаное слово никогда не пользовалось особенным влиянием и популярностью. Люди предпочитали устную речь с ее богатыми переливами красок и тонов мертвому слову, начертанному черным на белом,— неподвижному и бесцветному, как взор каменной статуи: они не любили читать по свитку свою “Илиаду” или Сафо, но предпочитали внимать живым устам певца с его вдохновенным лицом, светящимися глазами и глубоким, взволнованным голосом. Но чтение даже философских и научных сочинений, где подобных драматических моментов не могло быть, мало удовлетворяло их: они восставали против того сфинксообразного безмолвия, которым веет от печатного слова. Страница дает не больше того, что она в себе содержит: ее нельзя ни вопрошать, ни требовать от нее объяснений или ответов на возникающие сомнения, как то можно сделать с живым человеком. И этот недостаток казался людям столь крупным, что такие писатели, как Платон, употребляли все усилия, чтобы выработать литературную форму, при которой этот недостаток скрасился бы елико возможно. Эта форма была форма диалога, т. е. разговор между двумя и более лицами, из которых одно развивает известные положения, а другие возражают, останавливают, переспрашивают и т. д. Благодаря этому книга, казалось, приобретала все наиболее важные преимущества устной речи, да к тому же еще некоторые другие, которых последняя лишена. Таким образом, диалог в руках Платона является ничем иным, как письменной формой диалектики, и те общие цели, которые, как мы видели, имела в виду последняя, имеет также и первый. И тот, и другая отвечают на запросы своего времени, и какое бы значение мы им ни придавали в настоящее время, для своего момента они имели первостепенную важность. Пытливая мысль перестала уже удовлетворяться авторитетным провозглашением истины, исходящим от божества и его оракулов; она скептически начала относиться к безошибочности поэтического творчества и к безгрешности прадедовской мудрости: она стала назойливо требовать аргументов, взывающих не к сердцу или привычкам, а к критическому разуму. Взять положение, точно определить все входящие в него члены, осветить его со всех сторон и испытать его основательность в горниле разумного понимания,— пожалуй, даже цепь тщательно подобранных фактов,— вот какие требования предъявлялись теперь философу, который бы вздумал выступить со взглядами и доктринами, не вошедшими еще в наличную сумму идей и понятий. Догматическое изложение стало теперь невозможным: явилась потребность в системе аргументов и возражений, которая бы удовлетворяла всем указанным требованиям. Такая система была найдена: то были диалектика Сократа и диалог Платона. Достоинства диалога, как видит теперь читатель, довольно значительны, но еще более велики достоинства самого изложения. Мы имеем здесь дело с одним из самых блестящих писателей не только в греческой, но и во всемирной литературе: богатый, гибкий, мелодичный язык Эллады достигает у Платона такой же высоты художественности и пластичности, как мрамор под рукою Фидия. Прелесть выражений, простота и непринужденность оборотов, яркие образы, пленительные мифы и под всем этим все оживляющий и все согревающий поток глубокого поэтического чувства заставляют нас забывать все окружающее при чтении многих и многих страниц и даже целых диалогов, как, например, “Апологии” или “Федона”. Прибавьте к этому, что действующие лица Платона никогда не являются резонерствующими отвлеченностями, говорящими манекенами с тем или другим ярлыком для обозначения их имен, но, напротив, представляют удивительную галерею живых, во весь рост, фигур, проходящих мимо наших взоров, со всеми их индивидуальными особенностями,— определенными, драматически очерченными личностями данной эпохи и данной страны, которые живут, умирают, смеются, плачут, влюбляются, ненавидят и прочее. При всем том нам приходится сознаться, что большинство диалогов скучны и утомительны,— и это объясняется не столько трудностью трактуемых в них предметов, сколько некоторыми особенностями в манере Платона аргументировать. Наш ум нередко изнемогает под черепашьим ходом аргумента, останавливающегося на таких положениях, которые и без дальнейших объяснений представляются нам ясными как день; мы приходим часто в нетерпение от этой массы соображений и вопросов, которые нам кажутся вовсе не нужными; мы иногда даже обвиняем автора в педантизме за его столь мелкое распластывание понятий и предложений и наконец прямо негодуем, если на самом интересном месте, когда читатель напрягает всю силу своей мысли и внимания, его, под предлогом дальнейшего разъяснения, вдруг прерывают возражением или вопросом, который нам кажется тривиальным и плоским. Все это явление почти неизбежное всякий раз, когда приходится иметь дело с диалогами дидактического характера, подобно платоновским, и здесь-то кроется тайна той трудности чтения их, на которую так мужественно указал впервые Льюис. Всех диалогов, дошедших до нас под именем платоновских, тридцать пять, и еще к тому тринадцать писем философа к разным лицам. Эти последние, однако, за исключением седьмого, относительно которого мнения ученых еще разделяются, признаны все до единого подложными. У древних, по-видимому, чувство уважения к истине было менее развито, нежели у нас. Они не прочь были помистифицировать в случае чего — из видов ли благочестия или других, — тем более что при отсутствии научной критики и средств гласности это можно было делать с большой безнаказанностью: шансов на изобличение было мало. Отсюда эта масса подложных сочинений, которыми так богата древняя литература. К ним и принадлежат псевдоплатоновы письма, сочиненные не раньше полувека после его смерти, а в некоторых случаях даже еще позднее. Что до диалогов, то и они не все могут быть признаны подлинными. Еще в древности, как передает нам Диоген Лаэрций, по рукам ходили диалоги, приписываемые Платону, но на самом деле сфабрикованные его учениками; этот писатель и дает нам их список. Но даже из упомянутых тридцати пяти подлинность многих стала в последнее время подвергаться сомнению. Здесь не место вдаваться в изложение тех критериев, которыми пользуются ученые при определении подлинности тех или других диалогов; эти критерии — частью филологического, частью эстетического, частью хронологического, частью общелитературного характера, но, конечно, ни один из них не отличается математической точностью, и они часто противоречат друг другу. Поэтому вопрос о подлинности многих диалогов далеко еще не разрешен и находится, как говорится, под сомнением. Наиболее прочно установленною почитается подлинность тех диалогов, о которых имеется свидетельство Аристотеля, либо прямо цитирующего их как платоновские, либо упоминающего о них в таком смысле; а менее прочно — тех, за которые ручаются лишь общие традиции и внутренний характер их. Вот список наиболее известных диалогов, составленный Ибервегом, в нисходящем порядке их подлинности: “Республика”, “Тимей”, “Законы”, “Федон”, “Пир”, “Федр”, “Горгий”, “Менон”, “Гиппий Младший”, “Менексен”, “Теэтет”, “Филеб”, “Софисты”, “Политик”, “Апология”, “Лизид”, “Лах”, “Протагор”, “Эвтидем”, “Кратилл”. Но еще более трудной, нежели определение подлинности платоновских диалогов, является классификация их по содержанию. Для систематического изучения какой-нибудь философской системы нам важно прежде всего привести сочинения данного мыслителя в известный порядок. Чаще всего мы распределяем их по отдельным, хотя и связанным одна с другой, группам, смотря по предмету, в них трактуемому, либо располагаем их в известном преемственном порядке так, чтобы каждое из этих сочинений находилось во внутренней связи с предыдущим и изучение его служило ступенью к изучению последующего. Ни тот, ни другой род классификации не применим к сочинениям нашего философа. Уже спустя столетие после его смерти знаменитый ученый своего времени и директор Александрийской библиотеки, Аристофан из Византии, сделал попытку распределить Платоновы диалоги в ряд трилогий (т. е. групп по три), руководствуясь характером содержания. Спустя еще три с лишком века другой ученый — пифагореец Тразилл, распределил их по тому же принципу на девять тетралогий (группа из четырех), но ни тот, ни другой не выполнили своей задачи с достаточным успехом, и все дальнейшие попытки в том же направлении были столь же бесплодны. Объясняется это просто: отдельные Платоновы диалоги не представляют вместе с тем отдельных сюжетов, и редко какой из них занимается одним каким-нибудь вопросом или даже несколькими, но близко один к другому стоящими. Наряду с предметами политического характера вы встретите в одном и том же диалоге подробное изложение учения о душе или о воспоминании, а там, где трактуется теория идей, внезапно вводится и разбирается вопрос о всемирной гармонии или о достоинствах риторики. Ясно поэтому, что всякую попытку разграничить и распределить диалоги по предметам, в них излагающимся, заранее ждет неудача,— разве только мы решимся пожертвовать их цельностью и рвать их на отдельные страницы. Расположить их один за другим в логическом или генетическом порядке, в силу внутренней их связи, также нелегко, потому что именно такой связи, которая бы соединила все диалоги в одно органическое целое, у Платона не имеется. Мы привыкли ожидать от мыслителя, вступающего на публичное поприще, полного и отчетливого миросозерцания, разработанного если не во всех, то по крайней мере в существенных своих деталях. Мы полагаем, что идеи, им провозглашаемые, суть плоды долгой, хотя и тихой, незаметной работы мысли, к которым он пришел после строгой критики, и которые нашел, наконец, истинными. Мы берем его учение как раз навсегда установившееся и разбираем независимо от тех убеждений, которые автор мог иметь раньше или может иметь в будущем. Приступая с подобного рода мыслями к изучению платоновской философии, мы испытываем сильное разочарование. По одному и тому же вопросу у него имеются различные мнения, и нет ни одной доктрины, от важной до мелкой, которую бы он проводил в целости через все свои диалоги. Он то урезает свои мнения, то дополняет, то изменяет, то совсем отвергает, и часто защищает в одном диалоге то, против чего ожесточенно сражается в другом. Так, например, соглашаясь с Сократом, что добродетель и знание тождественны, и что, стало быть, первая поддается преподаванию, он в конце своей жизни отказывается от этого положения, тем самым отрицая всю этическую систему, которую он раньше так тщательно строил. Точно так же свое учение об идеях — это сердце его философии — он сам же в одном из своих наиболее блестящих диалогов “Парменид” до того разбивает вдребезги, что многие новейшие ученые никак не могут примириться с мыслью, чтобы этот диалог мог выйти из-под его пера. Даже сама форма диалога у него не до конца выдержана: не говоря уже об “Апологии”, где она по существу не могла иметь место, она почти исчезает, например, в последнем его сочинении — “Законах”, уступая место обычному связному методу изложения от лица автора. Такое крайнее непостоянство во взглядах и даже приемах может показаться странным, но оно объясняется тем глубоким духом скептицизма, которым был проникнут ум Платона, несмотря на всю кажущуюся его догматичность. Он был сыном своего века, но это не значит, чтобы он, подобно Протагору, когда-либо отчаялся найти истину: Платон был уверен, что она существует, но он лишь сомневался в своих силах дойти до нее. В каждый момент своего развития, когда, казалось, истина была уже у него в руках, он все же никак не мог отделаться от тайной мысли, что, быть может, он ошибается. Он верил в будущее, но не доверял настоящему, и эта струя скептицизма, еле приметная, но все же могучая, разъедала как ржа самые заветные догмы его учения. Быть может, Платон слишком широко смотрел на вещи, слишком часто становился — мысленно главным образом — в положение противника, чтобы верить в исключительную правоту своей точки зрения и абсолютную безошибочность своих мнений. Как бы то ни было, факт остается неизменным: мы не встречаем у него такой стройной и тщательно координированной системы, какую мы привыкли видеть у других философов, например, у Спинозы или Гегеля; у него даже, как уже давно было замечено, системы, в строгом смысле этого слова, совсем нет, а имеются лишь различные мнения,— правда, связанные между собой общностью тенденций,— выражающие отдельные моменты в процессе развития платоновской мысли. Эти мнения, изложенные на бумаге, и дошли до нас под формой диалогов, и искать поэтому между последними тесной внутренней связи, которая бы давала нам возможность изучать их в известном последовательном порядке, совершенно напрасный труд. Критики начала нашего столетия сразу заметили этот особенный характер платоновских сочинений, и знаменитейший из них, Шлейермахер, сделал попытку, стоя на этой почве, объединить их в одном общем принципе, который бы и осветил надлежащим образом такое крайнее разнообразие и противоречивость доктрин Платона, и дал в то же самое время возможность классифицировать его диалоги. Он провозгласил теорию, что Платон приступил к своим сочинениям с предопределенным планом и имел в виду не сразу развернуть во всей ее полноте общую и цельную картину своей системы, но, так сказать, постепенно подготовить ум читателя к восприятию ее. Платон собирался развивать свою систему не генетически, а дидактически, и согласно с этим его диалоги естественно распадаются на три группы: элементарную, подготовительную и построительную. Попытка была довольно остроумна, но, как уже вскоре показал другой известный ученый, Германн, совершенно произвольна. Как можно, в самом деле, предположить, и какими фактами можем мы такое предположение обосновать, что Платон приступил к своей литературной работе с предопределенным планом, да еще к тому же дидактического характера? Германн вместо этого предлагает стать на другую, более естественную точку зрения,— и именно ту, какую мы указали выше,— что диалоги, как они существуют, не представляют единого и органически сплоченного целого, а являются лишь отдельными выражениями платоновской мысли в отдельные моменты ее развития. Большего мы искать в них и не в состоянии, и не вправе, и всякая попытка стройной классификации их должна быть оставлена раз навсегда. Отсюда ясно, какое громадное значение приобретает для нас знание хронологического порядка, в котором диалоги Платона появлялись один за другим из-под его пера; только тогда можем мы определить положение — и историческое, и логическое — каждого диалога в ряду всех других. К сожалению, и это нам не вполне доступно, и лучшие авторитеты, сходясь относительно наиболее поздних произведений Платона, никак не могут прийти к общему заключению относительно самых ранних из них. Одни, относя начало литературной деятельности Платона к сократовскому периоду, считают за первые его диалоги “Хармид”, “Лизид” и “Лах”, в то время как другие, полагая, что он стал писать не раньше своего 40-го года, признают за первые “Федр”, “Ион” и “Пир”. Мы не претендуем дать свое личное мнение на этот счет, а приведем два списка диалогов — один — Джоуэтта, а другой — Иберверга — как два наиболее популярных типа хронологической классификации. Первый из них ставит диалоги в таком порядке: “Хармид”, “Лизид”, “Лах”, “Протагор”, “Эвтидем”, “Кратилл”, “Федр”, “Ион”, “Пир”, Менон”, ... “Апология”, “Критон”, “Федон”, “Горгий”, ... “Республика”, “Тимей”, “Критий”, “Парменид”, “Теэтет”, “Софист”, “Политик”, “Филеб”, “Законы”, а второй—“Федр”, “Пир”, “Протагор”, “Горгий”, ... “Менон”, “Республика”, “Тимей”, “Критий”, ... “Федон”, “Кратилл”, “Теэтет”, “Филеб” и “Законы”. Если, однако, классификация диалогов на тех или других началах невозможна, то все же мы можем найти в них ряд таких мнений, которые наиболее постоянно и ярко характеризуют Платона как философа. Мы должны их брать фрагментами изо всех диалогов, взаимно поправляя и дополняя. Мы, конечно, не получим при этом вполне законченной, органически связанной и округленной системы, но у нас будет, во всяком случае, общая картина всего того, что Платон наиболее долго и серьезно признавал за окончательную истину. Так до сих пор поступали историки философии и, смотря по содержанию, распределяли собранные вместе взгляды Платона на три отдела: 1) диалектику, или учение об идеях и познании, 2) физику, или учение о космосе и душе и 3) этику, или учение о нравственности и государстве. Без сомнения, и это подразделение не вполне точно и исчерпывающе; но за неимением лучшего, а также благодаря давности его существования (говорят, оно впервые было сделано самими учениками Платона), нам приходится им удовольствоваться и согласно с этим сделать обзор философской системы Платона. |