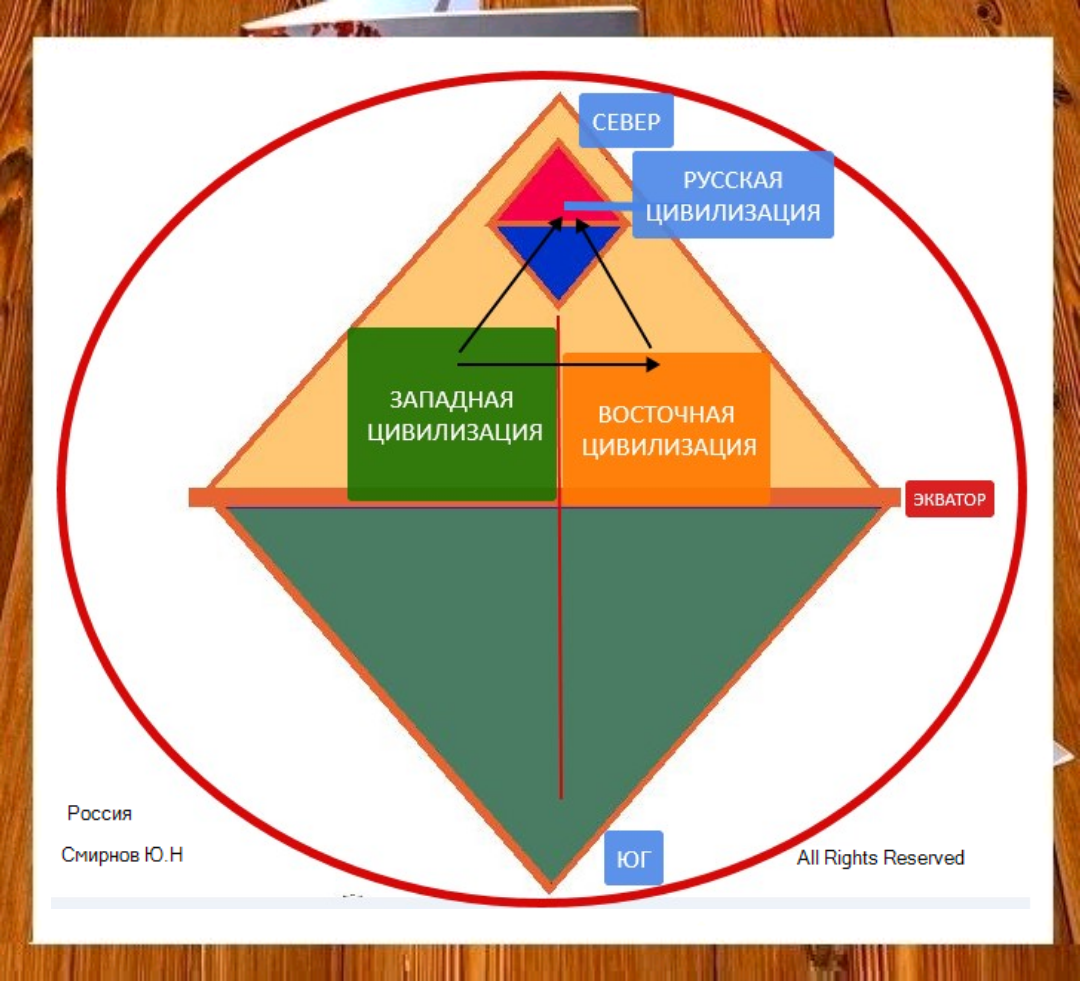|
|
|
|
Адам Смит АДАМ СМИТ. ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ГЛАВА I. Накануне промышленной революции Необходимость некоторого предварительного знакомства с экономической жизнью эпохи. Натуральный характер хозяйства в средние века. Усиливающийся рост городов. Влияние крестовых походов. Влияние открытия Америки и морского пути в Индию вокруг Африки. Разрушение старого экономического строя в Англии. Изменения в населении, сельском хозяйстве, промышленности. Машины. Торговля. Промышленная и торговая опека правительства. Умственное движение XVIII века. Меркантильная теория. Зарождение новых воззрений: Петти, Дёдлей, Норт, Локк, Юм. Школа физиократов во Франции: Кенэ, Тюрго. ГЛАВА II. Адам Смит как человек Тихая жизнь. Родители Смита. Исчезновение мальчика. Первоначальное образование. Университет. Публичные лекции. — Дружба с Юмом. Профессура. Лекторский талант Смита. Сношения с Эдинбургом и обсуждение торговых вопросов. Рассеянность. Выход в свет “Теории нравственных чувств” и письмо Юма по этому поводу. Прекращение профессорской деятельности. Путешествие по Франции в качестве воспитателя герцога Бёклея. Уединение. Выход в свет “Исследований о природе и причинах богатства народов” и письмо Юма по этому поводу. Значение Юма для Смита. Событие, омрачающее эту дружбу. Письмо Смита по поводу смерти Юма. Известность Смита. Посещение Лондона. Смит — таможенный чиновник. Избрание в ректоры университета г. Глазго. Общая характеристика Смита. Смерть Смита. ГЛАВА III. Адам Смит как писатель и мыслитель: “Теория нравственных чувств” и другие произведения. Обширные планы Смита. Сделанное. Прием, употребленный Смитом. Недостаток систематической разработки. Изучение нравственных явлений до Смита. Взгляд Юма на нравственность. Оптимизм Смита. Содержание “Теории нравственных чувств”. Отношение Смита к утилитаристам. Прочие небольшие произведения Смита. ГЛАВА IV. Адам Смит как писатель и мыслитель: “Исследования о богатстве народов”. Метод. Содержание. Две первые книги “Исследований”. Разделение труда. Обмен. Драгоценные металлы. Меновая ценность. Труд как мерило меновой ценности. Действительная и нарицательная цена. Составные части, из которых она слагается. Естественная и рыночная цена. Заработная плата. Прибыль на капитал. Поземельная рента. Интересы землевладельцев, рабочих, капиталистов. ГЛАВА V. Адам Смит как писатель и мыслитель: “Исследования о богатстве народов”. (Продолжение) Капитал. Оборотный и основной. Деньги. Труд производительный и непроизводительный. Накопление. Проценты на капитал. Различие капиталов по сфере их приложения. Третья книга. Отзыв Смита о крупных землевладельцах. Четвертая книга. Опровержение меркантильной системы. О колониях и колониальной политике. Критика учения физиократов. Система естественной свободы. Пятая книга. Функции государства. Облегчение торговых сношений. Народное образование. Налоги. ГЛАВА VI. Заключение Отсутствие систематичности в “Исследованиях о богатстве народов”. Конкретный и реальный характер их. Успех в среде общественных деятелей. Индивидуализм Смита. Его космополитизм. Значение “Исследований о богатстве народов” в отрицательном и положительном отношениях. Высказывания Ингрэма, Бокля, Бэджгота, Тойнби, Роджерса, Каутца и Чупрова.
ГЛАВА I. НАКАНУНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ Необходимость некоторого предварительного знакомства с экономической жизнью эпохи. Натуральный характер хозяйства в средние века. Усиливающийся рост городов. Влияние крестовых походов. Влияние открытия Америки и морского пути в Индию вокруг Африки. Разрушение старого экономического строя в Англии. Изменения в населении, сельском хозяйстве, промышленности. Машины. Торговля. Промышленная и торговая опека правительства. Умственное движение XVIII века. Меркантильная теория. Зарождение новых воззрений: Петти, Дёдлей, Норт, Локк, Юм. Школа физиократов во Франции: Кенэ, Тюрго. Адам Смит приобрел мировую известность своими “Исследованиями о природе и причинах богатства народов”. Многие считают его творцом политической экономии. Политическая же экономия, исследующая законы производства, распределения и потребления материального богатства, состоит в самой тесной связи не только с общим состоянием знания и умственным развитием человечества, но и с экономической жизнью или экономическими отношениями известного момента. Более чем к какой-либо другой науке к ней приложимо утверждение, что та или другая теория есть дело не столько усилий единичного творческого ума, сколько известных внешних явлений в жизни общества. Тут deus ex machina, хотя бы machina представляла лабораторию гениальнейшей головы, не появляется. Поэтому, чтобы понять и оценить любую экономическую теорию, необходимо изучить экономическую жизнь соответствующего времени. Тем более необходимо такое изучение для оценки великого произведения шотландского философа. Оно оказало громадное влияние на ход экономической и вообще общественной жизни только потому, что само было настоящим, подлинным продуктом и выражением радикально изменившихся условий производства и обмена. Революция, совершившаяся без всяких деклараций и провозглашений о самой себе в экономических условиях общественной жизни, нашла своего истолкователя в лице человека, совершенно чуждого какой бы то ни было деятельной жизни, всецело погруженного в свои отвлеченные занятия. Познакомимся предварительно, хотя бы самым беглым образом, с этими экономическими изменениями в ходе общественной жизни, а затем перейдем к Адаму Смиту и его великим экономическим открытиям, которые, по словам Бокля, “в продолжение двух поколений уже произвели полное изменение в торговом законодательстве нашей страны (Англии), а теперь хотя медленно, но верно действуют на другие европейские государства, где общественное мнение не так могущественно и где потому трудно установить великие истины и искоренить старые заблуждения”. Экономические отношения и деятельность в средние века отличались, по сравнению с современными, чрезвычайной простотой и несложностью. Христианская церковь, представлявшая в ту пору господствующую общественную силу, не могла, по самой сущности своего учения, особенно поощрять развитие материальных интересов. Она преследовала более возвышенные цели. Правда, она возводила в религиозный догмат необходимость труда, но при этом доводила до минимума материальные потребности человека и видела идеал в аскетизме. Поощряя трудолюбие, она ограничивала сферу промышленной деятельности производством лишь самых необходимых предметов потребления. То, к чему человек должен относиться как к наказанию, не должно служить источником наслаждения. Поэтому, признавая земледелие и ремесло законными способами приобретения пищи и одежды, она удерживала их на известном низком уровне, пропагандируя скудость в пище, простоту в одежде и так далее. Что же касается торговли, то она не пользовалась расположением церкви, а процент, этот могущественнейший в последующие времена стимул к сбережению и накоплению богатства, находился под прямым запретом канонических законов. Таким образом, хозяйство в средние века носило натуральный характер. Каждая хозяйственная единица собственными силами производила все необходимые предметы потребления и потребляла их, и если и выносила на рынок, то в самом незначительном количестве. Разделение труда проводилось в очень слабой степени, и потому труд не отличался ни той производительностью, ни таким совершенством, как в последующие времена. Торговля существовала в виде простой мены и купли-продажи на наличные деньги, и то в ограниченных размерах. Это натуральное хозяйство держалось на крепостном труде, что также связывало дальнейшее развитие экономической деятельности в сторону капитализма и свободной торговли. Города с их свободными общинами вначале представляли единственные центры, в которых исподволь вырабатывались основания нового порядка. Такое значение имели, например, знаменитый Ганзейский союз на севере и итальянские республики на юге. Внутреннему росту городов много содействовала продолжительная борьба королей с независимыми гордыми феодалами, а впоследствии и с церковью, когда короли за поддержку, оказанную им, наделяли богатые города разными привилегиями. Крестовые походы оказали также громадное влияние как на развитие городов, так и вообще на дальнейший ход жизни европейских государств: торговые сношения с этого времени чрезвычайно расширяются и оживляются; они становятся источником богатства многих городов; образуются значительные движимые капиталы; выделяется и быстро становится силой буржуазия; в производство также вводится много новых приемов и усовершенствований, позаимствованных на Востоке; наконец и положение крепостного населения, которому открывался путь (хотя бы и для отдельных лиц) к полному освобождению, значительно улучшается. Открытие Америки и морского пути в Индию вокруг Африки было событием первостепенной важности в экономической истории Европы; оно, как говорит г-н Чупров, “является основным агентом, переделавшим весь экономический строй”. Натуральное хозяйство должно было рушиться. На первых порах преобладающее значение получает торговля: европейские страны находят обширные рынки для сбыта своих произведений, а взамен получают массу драгоценных металлов. Не так бросается в глаза революция, совершающаяся в самом производстве; но, тем не менее, социальная почва постепенно подготавливается, и великие механические изобретения Аркрайта, Уатта и других находят все необходимые условия для своего осуществления, и бескровная (хоть, увы, не безжертвенная) революция совершается. Вместе с тем, в сфере распределения растет роковая неравномерность, растет и угрожает новыми страшными потрясениями современному цивилизованному человечеству, если оно не найдет надлежащего выхода, что и составляет задачу нашего времени. Адам Смит написал свою книгу накануне промышленной революции и написал ее в Англии, то есть в стране, которая может служить прообразом промышленного развития всех остальных европейских стран. Поэтому нам необходимо подробнее ознакомиться с ходом разрушения старого экономического строя в Англии. За первую половину XVIII столетия население Англии увеличилось на 17—18 %, а за вторую — более чем на 52 %, разница для двух непосредственно следующих один за другим периодов чрезвычайно значительна. Для первого периода характерное обстоятельство представляет быстрое развитие торговли, а для второго — изменения в сельскохозяйственной и промышленной системах производства. В распределении этого населения также происходят значительные изменения. Население увеличивается преимущественно в промышленных графствах и городах. В 1696 году число городских жителей, по приблизительному подсчету, составляло четвертую часть всего населения. Артур Юнг, писавший в 60-х годах восемнадцатого столетия, говорит, что в это время население одного Лондона составляло уже шестую часть всего населения и что “половина народа жила вообще в городах”. В наше же время, как известно, городское население в Англии составляет уже более чем 2/3 всего вообще населения. Такое громадное передвижение населения из деревень в города, от земледельческих занятий к промышленным, свидетельствовало о коренных изменениях, происходивших в сельском хозяйстве и промышленности. Действительно, мелкие крестьяне-собственники, владевшие пастбищами, лугами, лесами на общинном праве, йомены, доставившие некогда победу Кромвелю и к концу XVII столетия еще превосходившие фермеров по численности, к концу XVIII века исчезают почти совершенно. Происходит концентрация поземельной собственности в руках лендлордов; образуются крупные фермы и окончательно устанавливается типичное батрачное хозяйство. “Не знакомый с английской историей, — говорит Тойнби, — может подумать, что страна подверглась в это время опустошительному нашествию врагов или перенесла тяжелые и в высшей степени многознаменательные внутренние потрясения. Вначале под влиянием усилившегося спроса на шерсть крупные землевладельцы захватывали (огораживали) только общинные пастбища; но позже они стали огораживать и пахотные земли. Мелкий собственник, лишившись пастбища и леса, не мог вести дальше хозяйства, продавал свой участок и уходил в город или превращался в батрака. На его месте появляются крупные арендаторы, капиталисты. Таким образом, к чудовищным захватам присоединилась еще добровольная продажа. Сама система хозяйства радикально изменяется. Пашня запускается под пастбище, а в тех случаях, когда она обрабатывается, арендатор вкладывает в дело капитал и заводит более совершенные системы. “На месте прежних мелких земледельцев, которые были одновременно и землевладельцами, и капиталистами, и рабочими, появились, говорит Чупров, три раздельных класса: крупный землевладелец — лендлорд, который довольствовался получением ренты, но сам не вел сельского хозяйства как промысла, а занимался им только для удовольствия; крупный фермер — капиталист, который собственно являлся предпринимателем и главным деятелем в земледельческом хозяйстве; и, наконец, наемный рабочий, прилагавший свою силу по указанию и под надзором фермера. Этот новый оригинальный строй земледельческого хозяйства неуклонно преподносился авторам первых научных систем политической экономии и наложил неизгладимую печать на их построения”. К сожалению, этот новый экономический строй “преподносился” даже наиболее гениальными из первых политэкономов не с надлежащей полнотою: они не замечали, что развалины жилищ, амбаров, хлевов, по свидетельству одного современника, представляли единственные следы прежних обитателей... В средние века промышленность имела ремесленный характер. Изделия приготавливались преимущественно по заказу или на ближайший рынок; орудия труда отличались простотой; в самом производстве предприниматель и рабочий не представляли резко обособившихся сторон; все отношения и вся деятельность ремесленников точно определялись цеховыми уставами. С наступлением новых времен цеховое ремесло уступает место мануфактуре, которая и господствует в производстве до великих механических изобретений, то есть до конца XVIII века. Мануфактура держится на детальном разделении труда и на одновременной работе большого числа ремесленников в одном помещении, под началом, так сказать, одного и того же капитала. Мануфактура представляет все элементы фабричного капиталистического производства: разъединение производителя и предпринимателя, производство для рынка, противоположность труда и капитала и так далее; ей недостает только машины, придающей всем элементам грандиозные размеры и делающей излишним последний остаток ремесленного устройства, то есть знание известной специальности, ручное искусство, ловкость. Однако такая типичная мануфактура не сразу становится на место ремесла. Независимый ремесленник, самостоятельно закупавший сырье для своих изделий и самостоятельно же продававший последние на рынке, подпадает сначала под власть скупщика, который является посредником в его операциях по купле-продаже. С течением времени этот скупщик становится участником в самом производстве: он раздает сырье ремесленникам (кустарям) на дом, и последние, хотя владеют еще орудиями производства, работают, однако, уже на предпринимателя. Возникает домашняя система крупного производства, в дальнейшем своем развитии превращающаяся в мануфактуру. Причинами такого превращения служат, кроме самого характера производства, в иных случаях еще и выгода, и удобства наблюдения над работой, и экономия времени, и т. п. Для мануфактуры необходим уже рабочий, свободный от средств производства. Обезземеление крестьянства, происходившее разными путями, дает совершенно достаточный контингент таких свободных рабочих. Полное разрешение цеховой организации развязывало руки и в правовом — или, вернее, бесправном — отношении: обе стороны, предприниматели и рабочие, ничем не сдерживались уже в своих добровольных сделках. Государство не скоро еще пришло на помощь слабой стороне. Таким образом, почва была хорошо взрыхлена и посевы капитализма должны были дать хороший урожай. Однако до появления машин все находится еще в зачаточном состоянии. Во времена Смита в Англии наиболее распространены были производства по обработке шерсти и железа. Наряду с большими мануфактурами практиковалась в громадных размерах раздача сырья на дом. На глазах Смита совершался тот же процесс превращения самостоятельного кустаря в простого рабочего, какой на наших глазах происходил и происходит еще в России. Не напоминает ли следующее описание Дефо картинок из нашей, если не текущей, то вчерашней, промышленной жизни? “Земля около Галифакса была разделена, — говорит он, — на мелкие участки от двух до шести и семи акров каждый; на этих участках построены дома на таком расстоянии один от другого, что можно было переговариваться; в каждом доме можно было видеть раму с куском сукна или какой-либо шерстяной материи, а при более зажиточных домах были фабрички (наши светелки). Каждый суконщик держал по крайней мере одну лошадь для того, чтобы возить свои изделия на рынок, а также корову, две и больше, для потребностей семьи. Кустари кормились от ремесла, так как земельные участки были слишком ничтожны и зерна едва ли хватало на прокорм домашней птицы. Избы обыкновенно были переполнены здоровым рабочим людом, и всякий находил себе занятие, от самого старого до самого молодого: кто при красильном чане, кто при станке, кто занимался лощением сукна. Дети и женщины расчесывали шерсть и пряли. Там нельзя было встретить ни нищего, ни праздношатающегося...” Но такая кустарная идиллия продолжается недолго. Артур Юнг, путешествовавший по Англии несколько позже, говорит о целых деревнях, о целых округах, где кустари в своих избах работали уже на мануфактуристов, а еще несколько десятков лет спустя, с появлением машин, они принуждены были заколотить свои избы и отправиться на фабрику. Машина не только тогда, но и до сих пор еще не нашла дороги в “светелку”; выдерживать же борьбу с фабрикой “светелка”, само собою разумеется, не в состоянии. Поэтому она неизбежно погибала и погибает. Такова была промышленная атмосфера, окружавшая Смита. Он не знал еще паровой машины (кроме машины Ньюкомена) и не мог предвидеть тех чудес, которые породила она в XIX столетии. Из механических приспособлений его времени следует отметить лишь самопрялку, самолетный челнок, валяльную мельницу и еще некоторые незначительные усовершенствования в ткацком деле. Но почти одновременно с опубликованием его книги появляется целый ряд изобретений и усовершенствований: Харгревс изобретает прядильную машину; Аркрайт утилизирует изобретения Уайта для прядения посредством навоя и приспосабливает для их движения силу воды; Уатт изобретает паровую машину высокого давления; Робёк плавит железо на угле; Бринлей соединяет промышленные и торговые центры посредством каналов; несколько позже появляются прядильная машина Кромтона и ткацкий станок Картрайта. Эти изобретения произвели техническую революцию в производстве, для которой экономические условия были уже вполне подготовлены в Англии. В области торговли Англия в XVIII веке занимала одно из первенствующих положений среди европейских государств. Благодаря открытию Нового Света и наплыва драгоценных металлов от примитивного средневекового обмена не осталось и следа. Торговля не только развивалась, но становилась чуть ли не главной общественной силой. Векселя, банки, акционерные компании и так далее — все это появилось к ее услугам. Мало того, для стран, которые не владели рудниками, она представляла единственное средство разжиться звонкой монетой, “презренным” металлом. Но он стал презренным только в глазах нашей современной буржуазии, пресытившейся им и познавшей тщету его, а в то золотое время пробуждения к новой промышленной жизни на этот металл смотрели как на богатство народное и всякими мерами поощряли ввоз его. Таким образом, торговля сама по себе в глазах правителей получает значение вернейшего средства для обогащения нации. С разрушением цеховой организации и развитием торговых сношений, как внутренних, так в особенности внешних, правительство берет на себя руководительство промышленной и торговой деятельностью народа; производители обязывались изготовлять свои изделия по предписанным правительством образцам (в противном случае они подвергались разным взысканиям); заработная плата регулировалась предписаниями закона; чтобы обеспечить дешевый труд, устанавливались низкие таксы на предметы первой необходимости. Мало того, правительство вмешивалось даже в потребление. Елизавета в заботе об отечественной рыбопромышленности установила “политический пост”, запретив употребление мяса в течение двух дней в неделю. Позже (в 1666 году) предписано было хоронить мертвых обязательно в шерстяном платье. Все это делалось, понятно, для поощрения народного труда... для поощрения тех отраслей промышленности, из которых извлекались наибольшие доходы. Внешняя торговля с отдаленными странами находилась в руках нескольких компаний, пользовавшихся громадными привилегиями и представлявших чуть ли не государства в государстве. Большое значение для развития внешней торговли Англии имел “навигационный акт” Кромвеля. По этому акту вести торговые сношения с колониями Великобритании дозволялось только на таких судах, владельцы которых, капитаны и три четверти экипажа были великобританские подданные; затем, чтобы уничтожить посредничество других стран, дозволялось ввозить громоздкие товары на означенных судах только из тех стран, где эти товары производились. “Навигационный акт” передавал всю торговлю с обширнейшими колониями Англии исключительно в руки английских купцов и породил, можно сказать, морское могущество Великобритании. Дальнейшая торговая политика Англии до провозглашения независимости Северо-Американских Соединенных Штатов, что случилось несколько лет спустя после опубликования “Исследований о богатстве народов”, следовала тому же пути. Богатейшие в мире колонии должны были производить одно только сырье, которое поступало на фабрики деятельнейшей в мире метрополии или по ее усмотрению распределялось по всемирным рынкам. Взамен этого колонии получали из метрополии мануфактурные изделия, причем не только был безусловно запрещен ввоз в колонии иностранных изделий, но и подавлена всякая местная мануфактурная деятельность. Если бы, замечает по этому поводу Роджерс, можно было блокировать все американские порты во время войны за независимость, то инсургенты скоро были бы безоружны, так как они не сумели бы приготовить себе оружие. Чтобы удержать в своих руках обрабатывающую промышленность, Англия должна была не только подавлять проявление промышленного духа в колониях, но и поощрять его развитие у себя. Действительно, она старалась привлечь искусных мастеров, запрещала им выселяться, поддерживала у себя производство ввозными пошлинами, запрещала вывоз усовершенствованных орудий, улучшала сообщения и т. д. Однако эта запретительная система, которой так упорно придерживалась Англия, и эти механические изобретения, которые были сделаны ее практическим гением и которые она ревниво оберегала, неизбежно влекли ее на совершенно другой путь промышленной и торговой деятельности. Такой же запретительной политике следовали и другие государства, и Англия в конце концов почувствовала, что запретительная система мешает расширению ее торговли, что ее промышленность не боится уже никакой конкуренции, что, одним словом, настало время, когда ей выгодно сбросить путы с торговли и промышленности и вступить на путь свободной экономической деятельности. Мы говорили до сих пор об экономических явлениях, но не следует упускать из виду и того широкого и могучего умственного движения, которым ознаменовалось XVIII столетие, в особенности его вторая половина. Знаменитый труд Адама Смита непосредственно примыкает к этому движению и составляет его нераздельную часть. Пробил час не только одной экономической опеки. Во всех сферах человеческой деятельности чувствовалось обновление. По крайней мере, мысль человеческая простиралась далеко и пыталась переделать заново весь социальный механизм. Характерных проявлений этого движения следует искать во Франции того времени; но они имели общемировое значение. Имена Вольтера, Руссо, энциклопедистов принадлежат не одной Франции. Вольтер разрушил нестерпимую опеку католической церкви. Руссо перенес вопрос об опеке на политическую и социальную почву и апеллировал к естественному праву человека. Энциклопедисты в своей знаменитой “Энциклопедии” пытались дать ответы на все вопросы с точки зрения новых воззрений. Как бы велико ни было различие между отдельными мыслителями, но всех их воодушевляло одно общее стремление, одна общая мысль: освободить личность от разных пут средневекового мировоззрения и средневекового склада жизни. Начало индивидуализма в различных его проявлениях — вот краеугольный камень всех построений блестящего ряда мыслителей XVIII века. Англия, как нация по преимуществу практическая, выдвинула мыслителя-индивидуалиста в сфере вопросов преимущественно практических, деловых. “Свобода, свободная индивидуальная деятельность есть для Смита, — пишет один экономист, — всеоплодотворяющий и одухотворяющий элемент; это есть воздух, которым дышит хозяйство, свет, который освещает богатство, дыхание жизни, которое все проникает и призывает к живой деятельности, базис для общего развития и усовершенствования, рычаг всякого успеха и, наконец, истинная волшебная формула, с помощью которой все дурное изгоняется, а все доброе, великое и прочное вызывается”. Только мыслитель второй половины XVIII века мог воодушевиться в такой мере принципом “свободной индивидуальной деятельности” и, опираясь на нее, перевернуть в сфере мысли, точно Архимед, нашедший точку опоры для своего рычага, ходячие понятия относительно экономической деятельности и очистить путь для новых течений в общественной жизни. “Исследования о богатстве народов” есть только одна из глав великой книги, написанной выдающимися мыслителями второй половины XVIII века, и одно из дел — так как она, эта книга, была вместе с тем и настоящим делом, — совершенных людьми того же поколения. Теперь мы познакомимся с разработкой политико-экономических вопросов до появления знаменитых “Исследований”: с одной стороны, с зародышами тех мыслей, которые были изложены и развиты впоследствии в этих “Исследованиях”, а с другой — с противоположным, господствовавшим в ту пору учением, известным под термином меркантилизм. Меркантильная теория отождествляла понятие о богатстве с понятием о деньгах. Страна тем богаче, по этой теории, чем большим количеством золота и серебра она располагает. Двойственный характер денег как предмета торговли и как мерила ценности долго поддерживал это заблуждение, а масса драгоценных металлов, нахлынувшая из вновь открытых земель, побудила государственных деятелей и мыслителей изощряться в придумывании мероприятий, посредством которых можно было привлечь в свою страну наибольшее их количество. Для страны, не имевшей собственных рудников, единственным средством являлся обмен. Следовало так организовать его, чтобы страна вывозила возможно большее количество товаров и ввозила возможно меньшее, а разницу вывоза над ввозом получала золотом или серебром. На первых порах меркантилисты обращают внимание на приток именно этих драгоценных металлов, и потому систему их можно назвать системой денежного баланса. Но с дальнейшим развитием торговли эта система оказалась и стеснительной, и неправильной. Товары нередко ввозятся с тем, чтобы их вывезти потом и перепродать с прибылью; уплаченные за них деньги возвращаются со временем даже с лихвою; тем не менее, в данный момент из страны уходит известное количество золота или серебра и денежный баланс может оказаться не в пользу ее. “Однако, — замечает меркантилист Мен, — если бы мы стали судить о земледельце только в минуту посева, когда он разбрасывает по земле такое количество прекрасных зерен, то мы могли бы принять его за безумного. Но если мы вспомним в то время о жатве, составляющей цель его забот, то можем оценить по достоинству его труды и вытекающее из них изобилие”. Наконец, никакое запрещение не в состоянии предупредить вывоз золота и серебра контрабандным путем, раз это оказывается выгодным. Поэтому меркантилисты заменили систему денежного баланса системой торгового баланса: золоту и серебру может быть предоставлена свободная циркуляция, а государство должно заботиться лишь о том, чтобы вывоз товаров всегда превышал ввоз. Меркантилисты всегда представляли себе две страны как два враждебных лагеря: благоденствие одной обусловливалось разорением другой. Они были узкими националистами в политической экономии и естественными врагами широких общечеловеческих идеалов. Вообще же меркантилистов характеризуют не столько общие экономические идеи, цельное экономическое учение, сколько нижеследующие, скорее практические, стремления: 1) стремление придавать чрезмерное значение запасам золота и серебра; 2) стремление превозносить иностранную торговлю перед внутренней и обрабатывающую промышленность перед добывающею; 3) стремление придавать слишком большое значение густоте населения и 4) стремление к государственному вмешательству в торговые дела. Меркантилизм получает широкое распространение и становится силой, начиная с XVI столетия. Карл V в Испании, Генрих VIII и Елизавета в Англии, Кольбер во Франции руководствовались в своей деятельности меркантильным учением, в особенности прославился в этом отношении Кольбер, именем которого иногда называют даже и само учение. Вообще, меркантилизм был силен не теорией, а практикой; он представлял слишком ограниченное и узкое учение, чтобы теоретическая разработка его могла послужить поприщем для действительно гениального ума. Несравненно больший интерес имеют первые проблески более истинного учения, работы мыслителей и писателей, которых можно считать предшественниками Смита. Остановимся на них, так как они подготовили почву и даже посеяли многие из мыслей, давших такую превосходную жатву в “Исследованиях о богатстве народов”. Новые идеи зародились первоначально в Англии и затем были перенесены во Францию, где они получили более систематическую обработку. Дело началось, как это обыкновенно бывает, с критики господствовавших воззрений в области экономических явлений. Первую довольно заметную брешь в меркантильном учении сделал Петти в середине XVII века. Он исходил из того положения, что “труд есть отец и творящее начало богатства, а земля — мать его”. Он ставит ценность в зависимость от количества труда, употребляемого на производство предметов, а всеобщим мерилом ценности считает среднее количество самой дешевой пищи, которая необходима для дневного пропитания человека; он высказывается против запрещения вывоза монеты и вообще восстает против всякого вмешательства правительства в промышленные дела. Гораздо большее значение имеет сочинение Дёдлея Порта “Рассуждение о торговле”, вышедшее в 1691 году, то есть за 80 с лишним лет до появления работы Смита. Дёдлей Норт смело порывает всякие связи с меркантилизмом, доказывает, что источником богатства служит человеческий труд, что прилив и отлив денег должен регулироваться самопроизвольно, что процент не должен быть ограничиваем законом, что весь свет относительно торговли составляет как бы одну нацию, что нельзя людей принуждать к деятельности по предписанному образцу, что никакие правительственные законы не могут определять цен в торговле и так далее. Со всеми этими мыслями мы встречаемся впоследствии и у Смита. Третьим членом триумвирата известных британских мужей, подкапывавшихся под меркантильную систему и положивших основание новой теории, был знаменитый Локк. Он сильно грешит против основания зарождавшегося нового учения; но не своими писаниями по экономическим вопросам он содействовал разрушению меркантильной системы и развитию нового направления в изучении экономических явлений, а своими политическими и философскими произведениями, в которых он боролся со средневековым мировоззрением, восставал против абсолютизма и произвола, прокладывал новые пути в изучении общественных философских и психологических вопросов и устанавливал новые точки зрения. Свет мысли, зажженный им вверху, должен был неизбежно распространиться на все области, расположенные ниже. Экономические исследования в трудах Локка приводятся в связь с общей системой критической философии, и если сам Локк не воспользовался всеми выгодами нового положения, то этим не преминули воспользоваться последующие мыслители. После Локка почти до середины XVIII столетия в экономической литературе обнаруживается застой, не появляется ничего важного. Таким образом, мы переходим ко времени Смита. Из его современников заслуживает особенного внимания с нашей стороны Давид Юм. Он был лет на десять старше Смита и стал писать намного раньше последнего. Юм отвергает меркантильное учение, будто деньги — богатство, и признает подлинной силой и богатством народа его труд. Правительство должно заботиться о народе и промышленности, но ему совершенно незачем вмешиваться в обращение монеты. Процент также зависит не от количества денег, а от состояния промышленности, ремесел и торговли; он может служить барометром положения народа: низкий размер его показывает цветущее состояние общества. При обсуждении торговых вопросов Юм доказывает, что отдельные нации вовсе не враги, а сообщники в общем деле обмена. Он считал теорию ренты Смита ошибочной и высказал мысли, положенные в основание общепринятой теперь теории Рикардо. Но кроме многих верных положений, развитых Юмом по поводу отдельных вопросов, весьма важное значение имеет его постоянное стремление рассматривать экономические вопросы в связи с историей и законами человеческой природы вообще. Смит называет Юма одним из величайших философов-историков нашего времени, и последний, несомненно, имел на него большое влияние. Теперь мы должны обратиться к Франции и к ее знаменитой школе экономистов, без знакомства с которыми нельзя ни понять, ни оценить надлежащим образом великое произведение Смита. Около середины XVIII века во Франции обнаруживается большой интерес к экономическим вопросам. Так, Вольтер в одной из своих статей говорит: “Около 1750 года нация, пресыщенная стихами, трагедиями, комедиями, операми, романами, романическими историями, а еще больше романическими нравственными рассуждениями и теологическими диспутами, начала, наконец, рассуждать о хлебе”. В 1759 году он же пишет: “Прощай, наше искусство, если дела будут идти так, как идут! Страсть к обличениям и проектам по финансовым вопросам овладела народом!” Действительно, экономическое и финансовое положение Франции было слишком плачевно. Политика меркантилизма и самого мелочного вмешательства в экономическую деятельность народа принесла свои горькие плоды. Разоренный народ, искусственная промышленность, уродливая торговля и в результате пустая казна — вот те беды, которые предшествовали крушению старого порядка. Естественно, что мыслящие люди должны были обратить свое внимание в эту сторону, и естественно, что мысль их приняла направление прямо противоположное господствовавшему до тех пор учению. Если раньше считали, что торговля создает богатства, то теперь стали доказывать, что торговля совсем непроизводительное занятие; если раньше первостепенное значение признавалось за торговлей и мануфактурной промышленностью, то теперь стали придавать первостепенную важность земледелию; если раньше политика мелочной регламентации считалась величайшей мудростью, то теперь стали проповедовать полную свободу промышленности и торговли; началу безграничного вмешательства было противопоставлено начало безграничного невмешательства. Новые идеи о богатстве, труде, деньгах, торговле и так далее, впервые высказанные в Англии, были восприняты и быстро переработаны в целую систему, в законченное учение по другую сторону Ла-Манша. Так возникла школа физиократов. Источником богатства физиократы признавали одну только землю; она доставляет в сыром виде все продукты, необходимые для потребления человека, и дальнейшая обработка этих продуктов не создает никакого нового богатства. Фабричные и другие рабочие изменяют лишь форму продуктов, извлеченных из земли; правда, они придают им некоторую новую стоимость, но стоимость эта как раз равняется стоимости средств существования, потребленных рабочими во время производства; следовательно, в окончательном счете труд всех подобных рабочих нельзя назвать производительным. Точно так же и торговля не создает ничего нового; она перераспределяет лишь то, что создано трудом других. Таким образом, остается один только труд земледельца, который физиократы соглашаются признать производительным. Одна только земля доставляет такое количество продуктов, что за покрытием всех расходов по производству остается излишек, чистый доход. Вот на этот-то остаток земледельческих (и ископаемых) продуктов, буде он есть, и увеличивается ежегодно богатство народа. Он же должен служить и основанием для единого поземельного налога. Итак, все стремления должны быть направлены к возможно большему увеличению чистого дохода. Достигнуть этого можно легче всего, по мнению физиократов, при полной свободе деятельности каждого индивида. По отношению к экономической политике девизом физиократов служила знаменитая фраза Гурнэ, одного из основателей учения: “Laissez faire, laissez passer” [Никаких стеснений свободы и торговли” (фр.).]. Главою физиократов считается Кенэ, придворный доктор Людовика XV. Это был замечательно честный человек, всею душою отдавшийся своему учению и открыто проповедовавший его среди развращенного Версальского двора. Правда, учение это, хотя и состояло в самой тесной связи с освободительным движением XVIII века, не затрагивало прямо королевских прерогатив и потому было терпимо. Кенэ вдохновил целый ряд писателей, популяризировавших его идеи. Собственные же его произведения отличаются сухостью и отвлеченностью. Эпиграфом к одному из них служит, между прочим, другое знаменитое изречение в духе физиократического учения: “Pauvres paysans — pauvre royaume; pauvre royaume — pauvre roi” (“Бедны крестьяне — бедно королевство; бедно королевство — беден король”). Практическим представителем учения и самым выдающимся человеком среди физиократов был замечательный и единственный в своем роде министр финансов Тюрго. Здесь не место рассказывать о благородной деятельности этого человека и о гибели его трудов на пользу Франции. Приказы его сопровождались обыкновенно замечательными разъяснениями. Изложение же общих принципов политической экономии, как ее понимали физиократы, в сжатой и привлекательной форме мы находим в особом его труде, вышедшем одновременно с “Исследованиями о богатстве народов” Смита. “Физиократическое учение, — говорит Ингрэм, — не оказало почти никакого влияния на воззрения народа даже в своей родной стране... Однако добрые элементы его не пропали бесследно для человечества; они вошли как часть в более полное и здоровое творение Адама Смита”. Смиту не только было известно учение этой школы, но он был лично знаком с ее наиболее выдающимися представителями, о чем мы расскажем в следующей главе. ГЛАВА II. АДАМ СМИТ КАК ЧЕЛОВЕК. Тихая жизнь. Родители Смита. Исчезновение мальчика. Первоначальное образование. Университет. Публичные лекции. — Дружба с Юмом. Профессура. Лекторский талант Смита. Сношения с Эдинбургом и обсуждение торговых вопросов. Рассеянность. Выход в свет “Теории нравственных чувств” и письмо Юма по этому поводу. Прекращение профессорской деятельности. Путешествие по Франции в качестве воспитателя герцога Бёклея. Уединение. Выход в свет “Исследований о природе и причинах богатства народов” и письмо Юма по этому поводу. Значение Юма для Смита. Событие, омрачающее эту дружбу. Письмо Смита по поводу смерти Юма. Известность Смита. Посещение Лондона. Смит — таможенный чиновник. Избрание в ректоры университета г. Глазго. Общая характеристика Смита. Смерть Смита. Личная жизнь Смита протекла чрезвычайно тихо. Ему совсем не пришлось изведать житейских бурь и треволнений, даже простого внешнего движения в этой жизни было очень мало. Как дерево, оставаясь неподвижным, бесшумно проникает своими корнями в глубь земли, так этот мыслитель величаво спокойно проникал своею мыслью в глубь общественной жизни. Это, казалось, был не человек с обыкновенною плотью и кровью, а ходячая лаборатория, в которой неустанно перерабатывалась великим гением мысли масса сырого материала, доставляемого со всех полей обширного человеческого опыта. Конечно, именно мысль делала обыкновенно жизнь многих знаменитых людей бурной и шумной; мысль вызывала столкновение и борьбу, победы и поражения, торжество и гибель; мысль наполняла делами жизнь человеческую. Но мысль Адама Смита, вызвавшая громадное движение и великую борьбу, не окончившуюся и по сей день еще, не нарушила, по различным обстоятельствам, спокойного течения жизни самого мыслителя. Не эффектна эта жизнь и не по вкусу она любителям сильных ощущений; но для человека с неиспорченным вкусом она интересна по своей прозрачной чистоте и спокойной простоте. Адам Смит родился в 1723 году в небольшом шотландском городке Корккольди. Город этот расположен у морского залива и во времена Смита отличался уже некоторым развитием промышленности и торговли. Пожалуй, это была самая подходящая колыбель для великого экономиста, так как в большом шумном городе все явления экономической жизни слишком перепутаны и замаскированы другими, чтобы их можно было непосредственно наблюдать. Отец его умер за три месяца до появления на свет сына. Он занимал разные должности по службе и в последнее время был таможенным контролером. Мать Адама отличалась, по-видимому, незаурядными способностями и энергией. Она питала чрезмерную любовь к сыну, ту чрезмерную любовь, последствием которой нередко бывает нравственное уродство детей. Если это так, то ровный и спокойный характер Смита выработался не благодаря, а вопреки влиянию его матери. Как бы там ни было, но глубокая, взаимная привязанность между сыном и матерью продолжалась до самой смерти последней, а он пережил мать всего лишь на 9 лет. И это была не платоническая привязанность, поддерживаемая часто отдаленностью расстояний и тому подобными условиями. Они жили постоянно вместе, и Смит, остававшийся все время холостым, считал дом своей матери своим собственным домом. Как протекло его детство, мы не знаем. Об обыденном биографы обыкновенно не любят рассказывать; что же касается необыденного, то они рассказывают об одном только эпизоде, а именно: как странствующие медники украли трехлетнего мальчика и как догадливый дед быстро смекнул, куда девался ребенок, послал по свежим следам погоню и ребенок был благополучно возвращен домой. Первоначальное образование Адам получил в корккольдской школе, пользовавшейся в те времена прекрасной репутацией. Уже там обнаружились у него наклонность к чтению и необыкновенная память; вместе с тем он отличался рассеянностью, которая ничего не видит и ничего не слышит, что происходило, вероятно, от увлечения своими собственными мыслями. Временами он просто забывался и разговаривал сам с собою; привычка эта сохранилась у него на всю жизнь и немало удивляла впоследствии собеседников. Слабый физически и кроткий, он держался в стороне от шумных игр своих сверстников; тем не менее товарищи его любили. Четырнадцати лет Смит поступил в университет Глазго, где ревностно принялся за изучение математики и натуральной философии. Способности его были замечены профессорами, и он получил стипендию, учрежденную одним глазгосским купцом при Бальольской коллегии Оксфордского университета. Обычное образование небогатых шотландских юношей ограничивалось Эдинбургским или Глазгосским университетом. Не многим из них удавалось попасть в Оксфорд. Смит был одним из этих немногих счастливцев. Что же он вынес из Оксфорда? Что представлял тогда этот знаменитый центр просвещения в Англии? В былые времена под сенью его росли и крепли такие умы, как Виклиф, Эразм, Томас Мор. Но в бурную эпоху гражданского междоусобия и наступившей затем реставрации он утерял свое свободолюбие. Презренный ханжа и святоша Лоод завел там новые порядки. Оксфорд сделался очагом якобистского движения. Поощряемые наставниками, юноши устраивали уличные демонстрации в пользу короля Якова. Когда Смит оставлял университет, в Оксфорде вспыхнул бунт, и участниками его оказались, среди прочих, члены Бальольской коллегии. Рука об руку с этими регрессивными стремлениями росли общее отупение и невежество в университетской среде. Профессорские места были своего рода синекурой. Профессора нисколько не заботились об исполнении своих обязанностей. Что это были за профессора и что это были за лекции, можно судить по критике университетского образования в “Исследованиях о богатстве народов”. “Для человека, одаренного здравым умом, — говорит Смит, — должно быть делом тягостным сознавать, что лекции, которые он читает студентам, суть чистый вздор или нечто, весьма близко к нему подходящее. Должно быть, также крайне неприятно видеть, что большая часть слушателей не посещает лекции или слушает их с несомненным выражением неодобрения, насмешки или пренебрежения”. Чтобы выйти из такого затруднения, профессор имеет под руками несколько средств. “Вместо того чтоб самому объяснять преподаваемую своим слушателям науку, он может читать ее по книге, а если эта книга написана на мертвом или иностранном языке, то переводить и толковать ее или, для чего потребуется еще меньше труда, заставлять самих слушателей переводить ее, и, делая на нее время от времени некоторые замечания, он может вообразить, что читает им настоящие лекции. При самых ничтожных познаниях и при самом незначительном труде он может исполнять свою задачу, не вызывая насмешек слушателей и не прибегая к необходимости говорить перед ними вздор и нелепости. В то же самое время строгость, заведенная в училище, дает ему средство принудить слушателей посещать самым аккуратным образом эти так называемые лекции, а в продолжение чтения их держать себя самым приличным и почтительным образом”. Таково было преподавание в знаменитом Оксфордском университете во времена Смита. По стопам учителей, как это обыкновенно бывает, шли ученики. Студенчество отличалось не только невежеством, но грубостью и развращенностью. Да оно и понятно: для всех, как учащих, так и учащихся, отказывающихся от принципов человеческой свободы, остается открытой одна только дорога, приводящая рано или поздно к животному состоянию. Как Смит уберег свою душу и свой ум от растлевающего влияния такого преподавания и таких университетских распорядков, мы не знаем. Но он оставил Оксфордский университет после семилетнего пребывания в нем с довольно ясным, уже установившимся миросозерцанием. Наперекор стараниям своей alma mater он вышел из нее врагом всяких суеверий и убежденным сторонником свободных исследований и свободной деятельности. Его отправляли в Бальольскую коллегию, надеясь сделать из него доброго служителя англиканской церкви. Но, увы, ханжество Оксфордских наставников оттолкнуло юношу от такой карьеры, а чтение вышедшего незадолго перед тем “Трактата” Юма о человеческой природе открыло перед ним иные, более широкие перспективы. Он занялся изучением древней и новой литературы и с окончанием курса решился попытать свое счастье на литературном и научном поприще. Заметим здесь, что верный себе Оксфордский университет не удостоил своего славного питомца ученой степенью, да и сам питомец никогда не вспоминал с любовью о времени, проведенном в стенах этого университета. По окончании курса Адам Смит возвратился к своей матери в Корккольди и прожил с нею около двух лет. В 1748 году он отправился в Эдинбург и здесь, пользуясь покровительством одного знатного лорда, открыл публичные лекции по риторике и литературе. В те времена писательство как профессия было делом чрезвычайно трудным и редким даже в Англии. Легче было устроить при содействии людей, имеющих вес в обществе, публичные чтения, чем найти издателя. Лекции Смита имели успех. Он завязал полезные знакомства и близко сошелся с Юмом, что имело для него чрезвычайно важные последствия. Это знакомство превратилось с течением времени в тесную дружбу — дружбу, имеющую общественное значение, так как она была союзом двух могущественных умов Англии XVIII века. Любопытно, что в данном случае влеклись друг к другу вовсе не разнородные, дополняющие друг друга умы, как это бывает нередко; напротив, между Смитом и Юмом была масса общего. Оба они отличаются необыкновенной силой анализа и сравнительно слабым воображением; оба одинаково бесстрашны в своей разрушительной работе и в своих выводах; оба преследуют одни и те же цели и преследуют их одними и теми же путями, а нередко и в одной и той же сфере; и оба, как в своей личной жизни, так и в вопросах непосредственной политической жизни, оказываются людьми весьма скромными и умеренными. В 1751 году Смит был приглашен Глазгосским университетом на кафедру логики, а четыре года спустя он занял там же кафедру нравственной философии, которую удерживал за собой в течение 13 лет. Молодой профессор внес большое оживление в преподавание своего предмета. Нужно заметить, что уже Хётчесон, знаменитый предшественник Смита по кафедре нравственной философии в Глазгосском университете и его учитель, отрешился от узких средневековых взглядов на нравственность. В противоположность прежнему учению, будто бы разум слаб и бессилен разрешить нравственные вопросы, Хётчесон доказывал, что разум в состоянии совладать с такой задачею, лишь бы только ему была предоставлена свобода, и переносил нравственные вопросы на психологическую почву. Но он все-таки исходил из метафизических принципов и его учение отличалось абстрактностью, тогда как Смит сразу же придал своим лекциям в высшей степени конкретный характер. Курс его распадался на четыре отдела: первый составляла естественная теология, второй — этика, третий — общие принципы юриспруденции и четвертый — сущность политических учреждений. Лекции по этике были переработаны в сочинение “Теория нравственных чувств”, а из чтений о политических учреждениях выросло много лет спустя, когда Смит не был уже профессором, его капитальное и общеизвестное произведение “Исследования о богатстве народов”. Как о лекторе один из современников дает о нем довольно восторженный отзыв. Читая лекции, говорит он, Смит почти всецело полагался на свою способность к импровизированной речи. Его манера говорить не отличалась особенной изящностью, но он всегда говорил ясно и непринужденно и всегда, по-видимому, относился с интересом к своему предмету, почему вызывал интерес и у слушателей. Каждая лекция состояла обыкновенно из нескольких определенно поставленных положений, которые он старался доказать и пояснить примерами. Нередко эти положения, высказанные в общих терминах, производили сначала впечатление парадоксов, и сам профессор обнаруживал как бы некоторое смущение; казалось, будто бы он не вполне владеет предметом. Но по мере того, как он подвигался вперед, он воодушевлялся, и его речь текла свободно. Благодаря многочисленности и разнообразию приводимых им примеров обсуждаемый вопрос разрастался все больше и больше и принимал, наконец, такие размеры, что овладевал вниманием всей аудитории, и профессору незачем было прибегать к утомительным повторениям одних и тех же положений. Для аудитории было и приятно, и полезно следить за всевозможными видоизменениями основного вопроса и затем возвращаться обратно назад к исходному пункту. Репутация Смита как профессора стояла поэтому весьма высоко, и он привлекал массу слушателей из отдаленнейших местностей. Преподаваемые им предметы стали модными в Глазго, и его мнения составляли главный предмет разговоров в клубах и литературных кружках. И даже мелочные особенности его произношения и манера говорить делались нередко предметом подражания. Из другого же отзыва мы узнаем, что голос у Смита был неровный и произношение неясное, доходившее иногда до бормотания, что вообще он не отличался разговорными талантами и как собеседник значительно уступал Юму. Как бы там ни было, Смит в качестве профессора пользовался, несомненно, значительной репутацией. Читая лекции в Глазго, Смит поддерживал самые тесные контакты с Эдинбургом, где находился его друг Юм. Он состоял членом одного известного эдинбургского клуба, образованного с целями протеста и агитации против нежелания правительства, опасавшегося якобистского заговора, ввести в Шотландию народное ополчение. Клуб этот закрылся после того, как правительство обложило высокой пошлиной любимый напиток членов его, кларет, а вместо него было организовано новое общество под названием “Избранные”. В нем участвовали литературные знаменитости тогдашнего Эдинбурга. Замечательно, что на втором уже собрании был поставлен на обсуждение вопрос о пользе запретительных мер относительно вывоза хлеба и что дебаты по этому вопросу были открыты Смитом. Уже тогда (1754 год) Смита, как и Юма, интересовала меркантильная система, и они изучали ее не только в тиши своих кабинетов, но и в сутолоке самой жизни. В детстве, как мы заметили, Смит отличался внешней рассеянностью и забывчивостью; с возрастом недостатки эти усиливались. Вот наш профессор среди большого общества, но он никого не замечает и сидит в одиночестве. Губы его шевелятся, он улыбается и наконец начинает разговаривать сам с собою. Вы подходите к нему, обращаете его внимание на предмет общего разговора. Профессор как бы пробуждается от своего забытья и начинает тотчас же говорить; говорит он много, говорит до тех пор, пока не выложит перед вами всего, что знает по данному вопросу, и притом с замечательным искусством. Несмотря на то, что он почти совсем не знал людей, достаточно было самого ничтожного повода, чтобы он начал описывать и характеризовать их. Если же вы обнаруживали сомнение и прерывали его, он с величайшей легкостью отказывался от своих слов и начинал говорить прямо противоположное. Как велика была его забывчивость, показывает, между прочим, следующий случай. Однажды он был приглашен на обед, устроенный в честь известного государственного деятеля, проезжавшего через город. За обедом или после обеда Смит по обыкновению погрузился в свою задумчивость и вдруг начал громко и несдержанно обсуждать достоинства, а больше недостатки находившейся тут же знаменитости. Ему напомнили обстоятельства, среди которых он находится. Философ сильно сконфузился, но тотчас же, как бы впадая снова в забывчивость, он пробормотал самому себе и окружавшим его: “Черт возьми, черт возьми, ведь все это верно!” В большом обществе, на службе, на улице — он всюду был одинаков. Заложив руки за спину и закинув голову, он прогуливался по улицам, погруженный в свои размышления; ничего нет странного, что эдинбургские торговки могли принимать его за сумасшедшего. Подписывая какую-то деловую бумагу, он вместо того чтобы расписаться скопировал подпись лица, расписавшегося раньше него. Таких курьезов, вероятно, немало было с ним, так как его голова вечно была занята вопросами, не имевшими никакого непосредственного отношения к окружающей действительности. В 1759 году Смит напечатал свою “Теорию нравственных чувств”, и с этого времени нравственные вопросы отступили для него на второй план, а экономические, напротив, все больше и больше занимали его. Хотя “Теория нравственных чувств” намного слабее “Исследований о богатстве народов”, однако сочинение это было тотчас же замечено и на первых порах читалось усиленно, так что многие колебались даже, которому из них следует отдать предпочтение. По выходе книги Юм написал своему другу милое письмо, из которого приводим отрывки. “...Я все откладывал писать, пока не в состоянии буду сообщить Вам что-нибудь об успехе Вашей книги и предсказать с некоторой вероятностью, постигнет ли ее в конце концов вечное забвение или, напротив, она попадет в храм бессмертия. Хотя прошло всего только несколько недель со времени выхода ее, однако, я думаю, успели уже обнаружиться довольно серьезные симптомы, по которым я могу дерзнуть предсказать ее судьбу”. Здесь Юма якобы прерывают разные посетители, и он толкует о вещах совершенно посторонних. “Но какое отношение, — продолжает он, —имеет все это к моей книге, скажете Вы? Мой дорогой Смит, имейте терпение, успокойтесь, покажите, что Вы такой же философ на деле, как и в теории; не забывайте о пустоте, несообразности и легкомысленности обычных людских суждений, в особенности в философских вопросах, превосходящих понимание толпы. Истинный судья всякого мудрого человека есть его собственная совесть, и если он обращается когда-либо к мнению других людей, то только к мнению немногих избранных, свободных от предрассудков и способных оценить его работу. Действительно, самым верным признаком ошибочности известного суждения может служить одобрение толпы, и Фокион, Вы знаете, всегда подозревал себя в какой-нибудь несообразности, когда толпа встречала его слова рукоплесканиями... Теперь, в надежде, что Вы укрепили себя надлежащим образом всеми этими рассуждениями и готовы спокойно выслушать какое угодно мнение о своей книге, я должен сообщить Вам печальную новость: Ваша книга оказалась весьма несчастной, ибо публика склонна восхвалять ее до чрезмерности. Ее с нетерпением ожидали глупцы, а литературная чернь начинает уже превозносить ее весьма громко своими похвалами. Три епископа заходили вчера в лавку Миллера, чтобы купить ее, и осведомлялись об авторе. Епископ Питерборо рассказывал, что в компании, с которой он провел вечер, эту книгу превозносили выше всех других. Герцог Аргильский высказывается в пользу ее решительнее, чем он имеет обыкновение делать это... Лорд Литтельтон говорит, что Робертсон, Смит и Бауер составляют славу английской литературы... Карл Тоунсенд, считающийся первым умницей в Англии, так восхищен Вашей книгой, что, по словам Освальда, желал бы поручить автору ее воспитание герцога Бёклея и готов предложить ему такие условия, какие тот пожелает...” Таков был успех первого капитального произведения Смита. Сообщая о намерении Тоунсенда, Юм не рассчитывал, чтобы из этого могло выйти что-либо. Нужно было предложить особенно выгодные условия, чтобы профессор, и притом профессор, пользующийся прекрасной репутацией, предпочел положение частного учителя. Поэтому Юм хотел устроить дело иначе; он хотел посоветовать отправить молодого герцога в Глазго, но упустил случай сделать это. Однако года четыре спустя Тоунсенд действительно обратился к Смиту и предложил настолько выгодные условия, что профессор согласился оставить кафедру и отправиться с молодым герцогом в заграничное путешествие. Глазгосский университет не представлял из себя укрепленной цитадели средневековых воззрений, и поэтому он не только терпел таких профессоров, как Смит, но и сожалел об уходе их. Сделав постановление об открывшейся вакантной кафедре, университет, как записано в его протоколах, “не мог удержаться от выражения искреннего сожаления по поводу ухода доктора Смита, известная честность которого и прекрасные душевные качества завоевали ему любовь и уважение со стороны его товарищей по профессии, необычайный гений которого, великие способности и громадная начитанность делали такую честь всему университету. Его изящная и остроумная “Теория нравственных чувств” доставили ему известность и почет в глазах писателей и понимающих людей повсюду в Европе. Его счастливый талант пояснять отвлеченные вопросы конкретными примерами и никогда не изменявшая ему настойчивость в сообщении полезных знаний отличали его как профессора и вместе с тем доставляли великое наслаждение и громадную пользу в образовательном отношении его молодым слушателям”. Подобную аттестацию профессора, несвободные от завистливых чувств, как и все простые смертные, нечасто выдают своему коллеге. Не забудьте, что это — не надгробная эпитафия, в которой можно свободно расточать хвалу, так как никто не опасается соперничества со стороны мертвеца, а протокол по поводу ухода человека, полного еще жизненных сил и полного надежд на будущее. Честь и слава университетам, умеющим ценить своих выдающихся людей; их ведь немного бывает и среди профессоров!.. Так закончилась профессорская карьера Смита. В 1763 году он отправился с молодым Бёклеем за границу, а по возвращении занялся делом более важным, чем чтение лекций студентам. Казалось бы, какой расчет был известному профессору превращаться в неизвестного воспитателя английского аристократа? Руководился ли он денежным расчетом, я не знаю. Но, по соображению всех последующих обстоятельств, нельзя не признать, что сама судьба не могла бы придумать свое великое произведение, и в интересах этого произведения ему необходимо было познакомиться поближе именно с Францией. Во-первых, Франция представляла тогда, по выражению Беджгота, “музей экономических ошибок”, — а задумываемая Смитом книга и должна была разоблачить такие ошибки, сделать дальнейшее их существование невозможным. Понятно, что изучать экономические уродства на месте, в “музее”, было куда полезнее, чем созерцать их издали. Положим, и на родине было их немало, но, во всяком случае, Англия все-таки не представляла “музея” в этом отношении. А во-вторых, что еще, пожалуй, важнее, во Франции существовала уже в то время целая школа, строившая свое экономическое учение на совершенно новых началах. Личное знакомство с представителями этой школы имело для Смита громадное значение. Не познакомься он обстоятельно с учением о земле как главной производительной силе, мы не имели бы, вероятно, и учения о труде как сущности всякой меновой ценности, как начале, на котором зиждется материальное богатство народов. Едва ли Смит годился для роли воспитателя; но вместе с тем едва ли к нему и предъявлялись какие-либо особенные требования. Его пригласили больше из тщеславия. Однако герцог Бёклей писал впоследствии, что три года, прожитые за границей под руководством Смита, были для него очень полезны и что между ним и наставником не возникло за все время никаких недоразумений и разногласий. Сначала жизнь в Париже пришлась не совсем по вкусу Смиту. “Герцог, — писал он Юму, — не имеет ни одного знакомого между французами. Я же не могу познакомиться поближе с теми немногими, с кем уже знаком, так как не могу пригласить их к себе и сам не всегда располагаю свободой, чтобы пойти к ним. Жизнь, какую я вел в Глазго по сравнению с тем, как я живу здесь, была приятным времяпровождением. Чтоб убить время, я начал писать книгу”. Но первая остановка в Париже была непродолжительна. Скоро наши путешественники отправились в Тулузу; прожив там восемнадцать месяцев, они проехались по южной Франции, побывали в Женеве и возвратились назад в Париж. На этот раз жизнь в Париже сложилась, очевидно, лучше. Смит познакомился ближе с Тюрго, Кенэ, Неккером, Д'Аламбером, Гельвецием, аббатом Морелле — одним словом, с лучшими представителями тогдашнего французского общества. “Я познакомился со Смитом, — говорит аббат Морелле в своих мемуарах, — во время его путешествия по Франции в 1762 году. Он очень дурно говорил по-французски, но по его “Теории нравственных чувств” я составил высокое мнение о его глубоком и проницательном уме. В самом деле, до настоящего времени я смотрю на него как на одного из людей, наблюдения и исследования которых можно считать самыми совершенными по всем вопросам, какими только они занимались. Тюрго, любивший не менее меня философию, высоко ценит его талант. Мы видели его несколько раз. Он был представлен Гельвецию. Мы беседовали о теории торговли, банка, общественного кредита и о многих других предметах задуманного им великого сочинения”. Общение с этими людьми помогло Смиту уяснить себе многое в тех вопросах, которыми он интересовался тогда. Кенэ как глава экономистов-физиократов и как личность в высшей степени симпатичная произвел на него особенно сильное впечатление. Он намеревался посвятить ему свои “Исследования о богатстве народов”, и только смерть замечательного француза помешала ему сделать это. После шумного Парижа Смит удалился в свой родной Корккольди и здесь прожил в уединении целых десять лет. Он собрал массу материала. Нужно было его обработать. Конечно, у него были уже руководящие мысли. И теперь он не сидел и не выдумывал их в своем уединении. Но ведь и не какой-нибудь легковесный трактат писал он теперь. Он готовил труд, которому предстояло опрокинуть господствовавшие системы, принимавшиеся в течение целых веков за неопровержимую истину; опрокинуть барьеры, разделявшие народы в их промышленной и торговой деятельности, опрокинуть вековые привилегии и водрузить на обширном поле экономической деятельности знамя труда. Задача для одного человека громадная, непосильная. Нет ничего удивительного, что она истощила силы скромного шотландского философа и что, исполнив блистательно ее, он “опочил от всех дел”. Итак, словно отшельник, укрылся он от соблазнов шумной общественной жизни в своем Корккольди. Даже друг его Юм не знал хорошо, что он там делает. В 1769 году, находясь неподалеку, он приглашал его повидаться и между прочим писал: “Я хочу знать, что Вы сделали за это время, и намерен потребовать серьезного и точного отчета в том, как Вы распорядились временем в этом своем уединении. Я положительно уверен, что Вы наделали много ошибок в своих рассуждениях, в особенности в тех случаях, когда имели несчастие не соглашаться со мною!” В 1772 году Юм снова нападал на Смита за упорное уединение: “Я не принимаю в оправдание Ваших заявлений о расстроенном здоровье и смотрю на них лишь как на отговорку, подсказанную леностью и страстью к уединению. В самом деле, мой любезный Смит, если Вы будете поддаваться недомоганиям подобного рода, то Вы кончите тем, что порвете совсем всякие связи с человеческим обществом, к великому вреду обеих сторон”. Даже Юму не было хорошо известно, что Смит, отказавшись от человеческого общества, упорно работает как раз над тем, что должно было связать его неразрывными узами со всем человечеством. В Корккольди, среди родных, ему жилось легко и спокойно. Близость Эдинбурга и удобства сообщения по морю давали ему возможность поддерживать связи с людьми, но вместе с тем он был избавлен от назойливых и непрошеных посещений, да и в самом Корккольди был небольшой кружок знакомых, в обществе которых он временами отдыхал от своей работы. Работал Смит медленно, с трудом, исправляя и переделывая написанное. Обыкновенно он диктовал секретарю, расхаживая по комнате взад и вперед. Наконец в 1776 году появился плод этих усиленных занятий — “Исследования о природе и причинах богатства народов” в двух больших томах. Тот же Юм, не оставлявший в покое своего друга, приветствовал теперь его таким письмом: “Euge! Belle! Любезный мой Смит, я очень доволен Вашим трудом. Читая его, я освободился от тягостного беспокойства. На сочинение это возлагалась такая большая надежда и Вами самими, и Вашими друзьями, и публикой, что я трепетал при его появлении и теперь чувствую большое облегчение. Если я и сомневаюсь еще, чтобы оно сразу же стало самой популярной книгой, то только потому, что чтение ее обязательно требует большого внимания, а публика так мало склонна уделять его чему бы то ни было. Но книга Ваша отличается глубиной, основательностью, проницательностью, и в ней рассыпана такая масса примеров и любопытных фактов, что она должна, в конце концов, привлечь всеобщее внимание. Вы, вероятно, много исправили в ней во время Вашего последнего пребывания в Лондоне. Если бы Вы были теперь со мной, я поспорил бы с Вами относительно некоторых Ваших принципов. Я не могу согласиться, что поземельная рента входит составной частью в цену продуктов, и полагаю, что цена эта определяется исключительно количеством и спросом”. Далее Юм указывает еще на некоторые, по его мнению, погрешности и говорит, что обо всем этом, как и о сотне других вопросов, удобнее всего было бы побеседовать лично, что здоровье его быстро разрушается и он надеется, что Смит не откажется повидаться с ним. С первого пробуждения сознательной критической мысли, когда юноша Смит зачитывался “Трактатом о человеческой природе”, и до полного расцвета его гения, выразившегося в “Исследованиях о богатстве народов”, Юм, великий скептик XVIII века, поддерживает его и любовно следит за ним, как мать за своим сыном. Поддерживает и следит; нет, мало того. Вначале он наставляет и открывает перед своим юным другом целый новый мир мысли, а потом обсуждает и выясняет с ним вопросы, составившие предмет книги, ознаменовавшей собою наступление новых распорядков в экономической жизни народов. О Смите мы можем мыслить только в связи с Юмом; иначе его трудно себе представить. Тогда как обратного сказать нельзя. Теперь Смит достигал апогея своей известности, а Юм оканчивал свое земное поприще,— он умирал. Мы не погрешим против биографии Смита, если остановимся подольше на этом моменте; тем более, что тут возникает одно обстоятельство, имеющее большое значение и для характеристики самого Смита. Смита, как мы знаем, готовили к духовному званию, но он отказался от мысли быть священником и пошел по другому пути. Каково было его дальнейшее отношение к англиканской церкви, не совсем ясно, да это и не представляет особенной важности, так как общий склад его воззрений сам собою обрисовывается из его произведений. Но бывают обстоятельства, когда человек должен поступить определенно и решительно, не стесняясь тем, что он может задеть кого-нибудь или что-нибудь и повредить своим интересам или репутации. В особенности такие поступки бывают нравственно обязательны в делах дружбы. Умирающий человек просит своего друга исполнить его предсмертную волю, а этот друг отказывается. Как отнестись к такому поступку? Нечто подобное именно и случилось со Смитом. Он испугался английских епископов и суеверий англиканской церкви и омрачил свою дружбу с великим человеком непозволительным поступком. Юм, умирая, хотел завещать Смиту издание своих известных “Диалогов”, которые он издал бы сам, как он писал в письме, если бы мог рассчитывать прожить еще несколько лет. Смит очевидно был недоволен таким поручением и требовал от Юма, чтобы тот предоставил на его усмотрение — издать или вовсе не издавать этой книги. Он намеревался сохранить рукопись “самым тщательным образом”, но не издавать ее, а перед своей смертью возвратить родственникам Юма. Конечно, это было не в интересах последнего, и он освободил Смита от столь тяжелого для него поручения. А между тем едва ли можно сомневаться, что Смит разделял взгляды, изложенные в упомянутых “Диалогах”. У человека хватило силы перевернуть экономическую политику европейских государств и не хватило храбрости пойти навстречу английскому “cant'y”, этому типичному образцу ханжества и святошества! “Диалоги” были изданы в 1779 году, то есть задолго еще до смерти Смита, и едва ли нужно прибавлять, что они нисколько не повредили интересам Юма; мы говорим, само собою понятно, не о материальных или каких-либо иных житейских интересах, не существовавших уже для великого мыслителя, а именно о тех непреходящих интересах истины, которые воодушевляют всякого мыслителя. Как бы желая загладить свой проступок, Смит оставил замечательное описание последних дней жизни своего друга, который умирал спокойно, невозмутимо, как может только умирать человек с просветленной мыслью и чистой совестью. “Сила духа и твердость Юма, — пишет он, — были так велики, что самые близкие друзья его нисколько не стеснялись говорить с ним и писать к нему как к умирающему человеку, и он не только не огорчался этим, но напротив, подобное обращение скорее ласкало его чувство и доставляло ему удовольствие... Он говорил, что чувствовал себя вполне удовлетворенным и что, прочитывая в последние дни Лукиановы “Диалоги мертвых”, он не мог подыскать для себя ни одного извиняющего обстоятельства, с которым он мог бы обратиться к Харону и попросить его не торопиться с переправой. У него нет дома, который нужно было бы достроить, нет дочери, о которой ему нужно было бы еще позаботиться, у него нет врагов, которым он хотел бы отомстить за свои обиды. “Я не мог себе представить,— сказал он,— какое бы обстоятельство я мог привести Харону в оправдание своей просьбы дать мне маленькую отсрочку. Я сделал все важное, что только намеревался сделать когда-либо, и я никогда не мог рассчитывать оставить своих родственников и друзей в положении лучшем, чем я оставляю их теперь. Следовательно, у меня есть все основания умереть довольным”. Потом он стал придумывать разные забавные оправдания, какие он мог бы привести Харону, и разные ответы на них со стороны последнего. “По дальнейшем размышлении, — сказал он, — я подумал, что мог бы сказать ему: “Добрый Харон, я занят исправлением своих трудов для нового издания; повремени же немного, чтобы я мог посмотреть, как публика отнесется к ним”. Но Харон ответил бы: “Когда ты увидишь это, то захочешь сделать новые исправления. И таким просьбам не будет конца; входи-ка, почтенный друг, в ладью”. Но я все-таки продолжал бы настаивать: “Потерпи немного, добрый Харон! Я старался открыть глаза людям. Если я проживу еще несколько лет, может быть, я увижу падение некоторых из господствующих систем суеверия и таким образом буду удовлетворен за свои труды”. Но Харон, потеряв всякое терпение и снисхождение, закричал бы: “Ах ты, праздношатающийся плут! Этого не случится в продолжение многих сотен лет. Не воображаешь ли ты, что я тебе дам отсрочку на столь продолжительное время? Входи сию же минуту в ладью, лентяй, праздношатающийся плут!” Через 18 дней после этой беседы роковая болезнь сделала свое дело: Юма не стало. До последней минуты он не изменил себе и умер, как подобает умереть отважному честному человеку. “Так умер, — говорит Смит, — наш самый лучший, навеки незабвенный друг, относительно философских мнений которого люди несомненно будут разно судить — одни одобрять, другие порицать их, смотря по тому, окажутся ли они согласными или несогласными с их собственными мнениями; но относительно личности и поведения которого едва ли может быть разногласие в мнениях”. Со смертью Юма положение Смита значительно изменилось. С одной стороны, не стало его ближайшего друга; не стало человека, по дружбе с которым Смит до сих пор был, главным образом, известен. С другой стороны, он сам становился теперь великой известностью. Правда, труд его был замечен сначала только людьми избранными; те же, против кого он был направлен, не обратили внимания на рассуждения какого-то шотландского мыслителя, ех-профессора. Поэтому он и не вызвал резких, свирепых нападок, как это случилось позже, уже после смерти Смита. Но зато избранные сразу оценили книгу и признали в ее авторе великого мыслителя. Вскоре после выхода ее Смит был приглашен на званый обед, на котором присутствовали Питт, Гренвилль, Аддигтон и другие. Питт воскликнул: “Мы будем стоять, пока Вы не сядете, так как все мы — Ваши ученики!” Понятно, что даже необычайно скромному Смиту захотелось теперь побывать в Лондоне и прислушаться, что говорили о нем в столице. Он располагал хотя скромным, но постоянным доходом в 300 фунтов (3000 рублей), назначенных ему в виде пенсии опекунами его воспитанника герцога Бёклея. Суммы этой при его аккуратной жизни было вполне достаточно, и потому он, не стесняясь денежными соображениями, мог удовлетворить свое любопытство. В Лондоне он познакомился с выдающимися людьми того времени, хотя, по-видимому, далеко не со всеми у него установились приязненные отношения. Так, он не ладил с Джонсоном, царившим в те времена в некоторых лондонских салонах; по рассказам, между ними произошло даже довольно грубое столкновение. Этого можно было бы ожидать, так как Джонсон представлял прямую противоположность Юму и, следовательно, должен был казаться антипатичным и его ближайшему другу Смиту. В Лондоне Смит прожил два года. И что же он вывез оттуда в конце концов? Назначение на службу по таможенному ведомству!.. Герцог Бёклей выхлопотал ему место таможенного чиновника в Эдинбурге. Смиту было в это время 55 лет — возраст, в котором многие ученые еще бодро работают. Каким же это образом люди не нашли работы, более подходящей для только что взошедшего экономического светила? Через несколько десятков лет по мысли Смита будут решаться важнейшие государственные вопросы; он мертвый будет руководить из могилы политикой, и притом не одной Великобритании; а теперь, живой, он должен прочитывать исходящие и входящие бумаги, подписывать их, исполнять скучнейшие и довольно-таки бессмысленные обязанности таможенного чиновника в провинциальном городе! Незавидная участь! Однако Смит принял это назначение без ропота и неудовольствия. Мало того, он действительно становится чиновником, хотя и не особенно старательным. С назначением в Эдинбург он совсем перестал работать над теми вопросами, которые его занимали до тех пор. Он ничего не написал и ничего нового не напечатал, ограничиваясь просмотром своих прежних трудов для новых изданий. Между тем, он далеко еще не выполнил намеченной им некогда грандиозной схемы. Казалось бы, успех, выпавший на долю “Теории нравственных чувств” и “Исследований о богатстве народов”, должен был бы побуждать продолжать работу дальше и дальше. Но, очевидно, умственные силы его истощились, и он не чувствовал себя в состоянии выполнить колоссальный план предположенной работы. К тому же не стало лучшего друга, который принимал неизменное участие во всех его работах. Вообще, это совпадение — смерть Юма и прекращение дальнейшей ученой и писательской деятельности Смита — факт значительный и любопытный. В Эдинбурге Смит вел открытую общественную жизнь, любил принимать у себя друзей и часто бывал в обществе. Сам он никогда не отличался говорливостью, но, вызванный на разговор, разражался обыкновенно целым потоком слов и благодаря своему обширному чтению и прекрасной памяти мог обсуждать любой предмет с каких угодно сторон. Полемики он вообще избегал, да и поводов к ней при жизни его не было. Однажды только на него напал один из представителей англиканской ортодоксии за письмо по поводу смерти Юма; Смит отвечал молчанием. В 1784 году умерла его мать, а в 1788 году — кузина, жившая вместе с ним в Эдинбурге. Потеря матери, с которой он прожил нераздельно целых шестьдесят лет, была для него очень чувствительна. Он остался в одиночестве, особенно тяжелом для старого человека. Здоровье его стало разрушаться. В 1787 году Глазгосский университет избрал его своим почетным ректором. Смит был очень обрадован таким вниманием. “Никакое повышение в чинах,— писал он,— не могло бы доставить мне такого полного и действительного удовлетворения. Нет человека, который был бы обязан какому-нибудь учреждению больше, чем я — Глазгосскому университету. Он воспитал меня. Он послал меня в Оксфорд. Вскоре по возвращении моему в Шотландию он избрал меня в число своих членов, а затем предоставил мне кафедру, которая благодаря способностям и добродетели Хётчесона пользовалась большой известностью. Эти тридцать лет своей профессорской деятельности я вспоминаю как самые полезные и, следовательно, самые счастливые и самые достопочтенные годы в своей жизни. И теперь мысль о том, что мои старые друзья и покровители вспомнили обо мне столь лестным образом после моего двадцатитрехлетнего отсутствия, доставляет мне сердечную радость, выразить которую спокойно я не могу Вам”. Бесцветно протекали все эти годы жизни Смита, хотя он и не дожил еще до того, что называется собственно старческим возрастом. Известная сухость, отсутствие того глубокого животворящего чувства, которое, подобно роднику, просачивающемуся через сумрачную каменную глыбу, порождает жизнь и движение повсюду, куда только проникает он, заметны не только в холодных произведениях, но и в самом характере Смита. Простой, снисходительный, любезный человек, — трудно даже сказать, испытывал ли он когда-либо любовь или гнев. Изведал ли он силу страстей? Познал ли он муки, которыми сопровождается нарождение всего нового? Едва ли и едва ли. Это был, несомненно, уравновешенный человек. Но как он достигал и поддерживал это свое равновесие? Мы видели, что он уклонился от представившегося ему случая, единственный, кажется, раз, вступить в полемику, хотя его прямо вызывали на то и хотя поднятый вопрос стоил того. Мы видели также, что он отказался исполнить просьбу друга своего, потому что побоялся затронуть страсти человеческие, которые он всячески старался обходить. А между тем, дело шло, несомненно, и о его собственных убеждениях. Кто знает, не побоялся ли бы он, ради сохранения своего спокойствия и уравновешенности, опубликовать и “Исследования о богатстве народов”, если бы опасался, что они тотчас же вызовут великую распрю и доставят ему не славу, а бедствия, неприятности, вражду? Да, в личности Смита мало геройского, возвышенного. Но он обладал необычайной силой анализа, и потому в той сфере, куда, по счастью, направилась его мысль, он мог совершить поистине великое дело. Едва ли мы погрешим против истины, если скажем, что свою характеристику благоразумного человека в “Теории нравственных чувств” Смит составил по себе самому. “Благоразумие не допускает нас, — говорит он, — рисковать нашим здоровьем, нашим благосостоянием, нашим влиянием, нашим добрым именем... Оно больше заботится о сохранении уже приобретенных выгод, чем о приобретении еще больших... Благоразумный человек не должен стараться обмануть в своих достоинствах ни лицемерием, ни наглым напыщенным педантством, ни нахальным, бесстыдным шарлатанством. Он не должен тщеславиться даже своими действительными дарованиями. Речь его должна отличаться скромностью и безыскусственностью... Он опирается на действительные заслуги и пренебрегает средством для снискания расположения литературных кружков, выдающих себя за непогрешимых судей в искусствах и науках, — кружков, раздающих известность дарованиям и достоинствам и готовых ославить всякого, кто осмелится не признать их приговора... Благоразумный человек всегда искренен... но он не всегда бывает откровенен и прямодушен; хотя он говорит только одну правду, но не считает необходимым открывать ее, если его не побуждают к тому его обязанности... Благоразумному человеку незнакома горячая, страстная, но почти всегда непостоянная дружба... Его дружба состоит в постоянной и неизменной привязанности к небольшому числу испытанных и избранных людей, в привязанности, основанной не на легкомысленном поклонении блестящим и ослепляющим качествам, а на благоразумном уважении скромных добродетелей... Благоразумный человек не любит шумного общества; оно возмутило бы правильное течение его жизни и его занятий и нарушило бы жизненную простоту и умеренность его жизни... Благоразумный человек относится с осторожным уважением ко всем принятым обычаям... Он не согласится пристать ни к одной из враждующих сторон, он ненавидит партии. Он боится беспокойства и ответственности, связанных с ведением общественных дел”. Таким именно благоразумным человеком был Смит в своей личной и общественной жизни. Смит умер в 1790 году, 67-ми лет, проболев довольно значительное время от завала кишок. Его похоронили на том же кладбище, недалеко от того места, где покоился уже прах Давида Юма. Друзья снова сошлись в месте вечного упокоения и разместились там соответственно своему значению. Юм покоится на возвышенности, у подножья которой — могила Смита, покрытая копотью и дымом новой промышленной жизни, развившейся после того, как начала, возвещенные в “Исследованиях о богатстве народов”, стали применяться на деле. Смит строго относился к обработке своих трудов и поэтому многие рукописи, как рассказывают, были им уничтожены еще при жизни. Несколько же оставшихся отрывков, касающихся разных вопросов, но долженствовавших, по крайней мере существеннейшие из них, составить по окончательной обработке одно целое, были опубликованы после смерти Смита под заглавием “Опыты по философским вопросам”. О них мы скажем в следующей главе. |